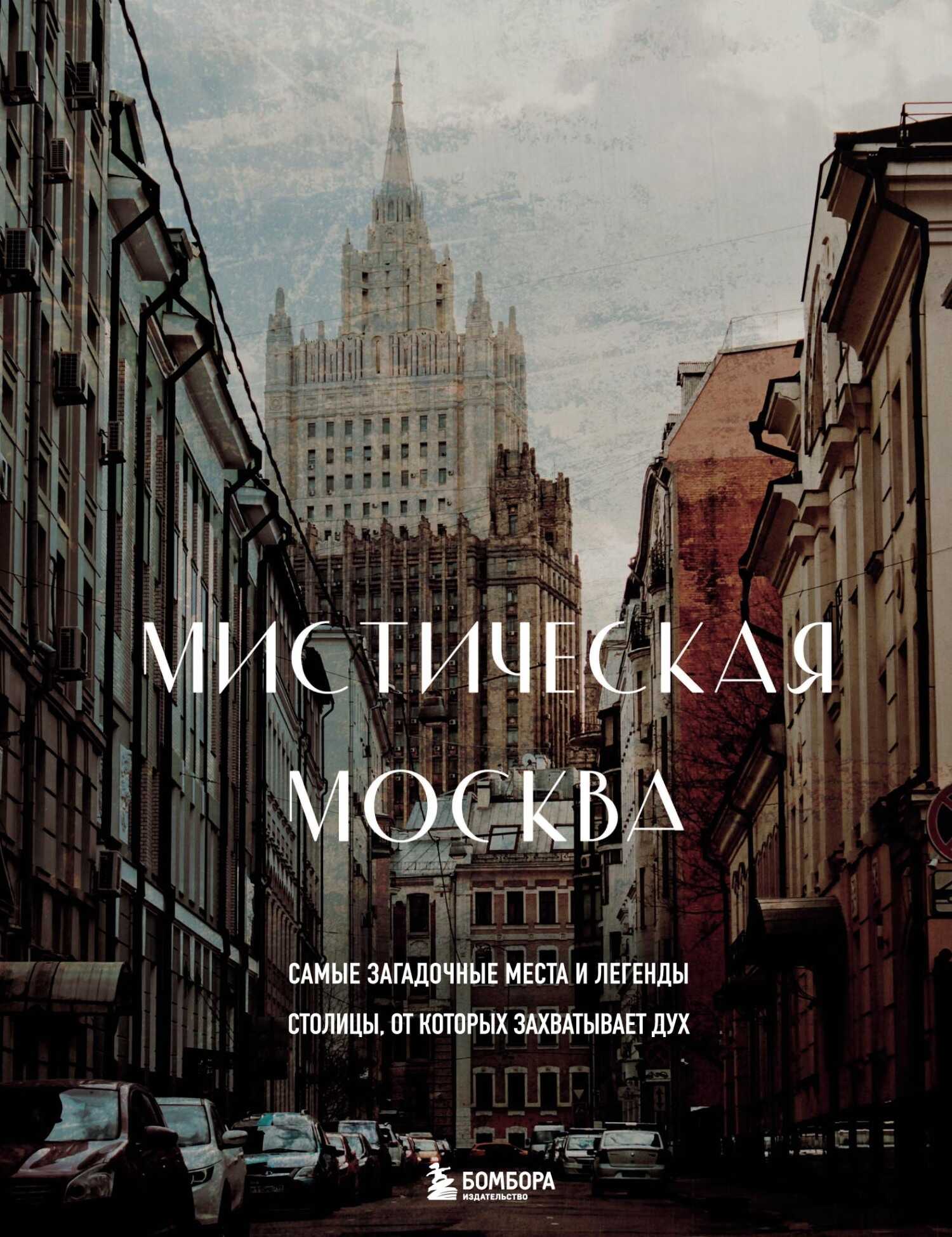История улиц Москвы. От Неглинной до Басманной - Никита Денисович Здоровенин Страница 28
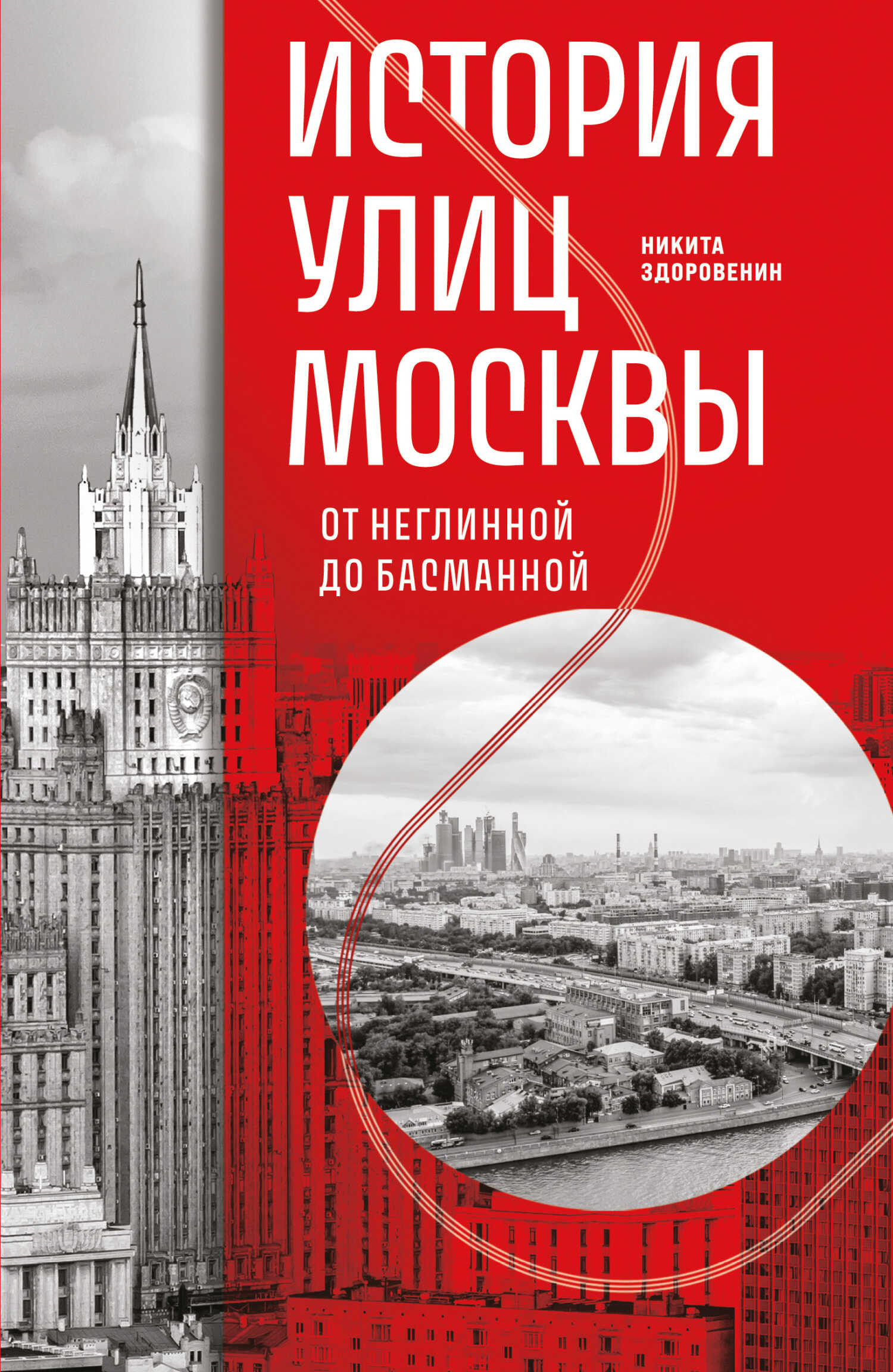
- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Никита Денисович Здоровенин
- Страниц: 51
- Добавлено: 2025-08-27 23:10:58
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
История улиц Москвы. От Неглинной до Басманной - Никита Денисович Здоровенин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История улиц Москвы. От Неглинной до Басманной - Никита Денисович Здоровенин» бесплатно полную версию:Эта книга для тех, кто хочет не просто пройти по Москве, а открыть для себя много нового!
Как на спиле старой сосны видны кольца ее роста, так и план Москвы хранит следы веков. Эта книга приглашает вас в захватывающее путешествие по улицам, переулкам и площадям, где каждый поворот – это новая история, каждый дом – живое свидетельство прошлого.
Книга проведет вас по самым интересным маршрутам: через уютные улочки Бульварного кольца, шумные магистрали Садового, по скрытым тропинкам старых районов. Улицы переплетаются, перетекают одна в другую, образуя сложное кружево городской памяти. Вы узнаете, как менялись улицы вместе с ходом истории, какими они были до революций, войн и обновлений, и какие тайны они хранят до сих пор.
Вы узнаете:
• Где начинается и заканчивается Китай-город.
• Какие улицы сохранились после разрушительного пожара 1812 года и существуют по сей день.
• Как Никольская стала самой популярной улицей России.
• Какие новые проекты улиц готовятся в столице и как поучаствовать в выборе их наименований.
Автор книги Никита Здоровенин – искусствовед и сооснователь образовательного проекта «Города @ Люди» – как никто другой познакомит вас с Москвой.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
История улиц Москвы. От Неглинной до Басманной - Никита Денисович Здоровенин читать онлайн бесплатно
Здесь расписывали стены – в одном из более новых залов, примкнувших к старинному особняку, все стены исписаны известными поэтами и прозаиками. Рождественский: «Если тебе надоел ЦДЛ, значит, и ты ему надоел». Кирсанов: «Съев блюдо из 8-ми миног, не мни, что съеден осьминог!» Вознесенский: «Средь индюков и аллигаторов приятно видеть литераторов».
Сейчас ЦДЛ разделился на две половинки: в новой – до сих пор Дом литераторов, а в старой, в особняке, – ресторан с открытым лишь для немногих вторым этажом.
Арбат
В ЭТОЙ ГЛАВЕ:
• В «Праге» подают «мемные» блюда по мотивам хитов Гоголя.
• Цой жив! (Но это не точно.)
• В Москве снова разрешают шутить.
УАрбата есть какой-то флер былой интеллигентности. Когда сейчас гуляешь по улице, его уже не чувствуешь, здесь сплошь туристы, сувенирные магазины, картонные лидеры мировых держав и уличные музыканты. Но когда про Арбат читаешь, кажется, что в Москве это был какой-то особенный закуточек: со своими людьми, системами координат и разговорами.
Здесь, в старых переулках за Арбатом, Совсем особый город…
И. А. Бунин
Но, наверное, главным ретранслятором этой атмосферы стал Булат Окуджава, певец Арбата и его житель: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моя религия…» – пел бард. Арбат, что у Бунина, что у Окуджавы, – это, конечно, не сама улица, это весь район, с его переулочками, ныне закрытыми тайными ходами, и уютными закуточками, оставшимися еще какими-то неполными отголосками. Квинтэссенцией арбатского уютного закуточка стала, пожалуй, картина Поленова «Московский дворик». Москва здесь неузнаваемая: наполовину сельская, наполовину деревянная, зеленая, с курами и конями. Сейчас на месте деревянного домика на картине – школа номер 1231, а церковь, та же самая, – так и стоит. Но началось все не с Бунина, Окуджавы и Поленова.
Началось все вот с такой фразы: «Погорел совсем на Орбате Никифор Басенков». Да, вот так в летописи впервые упомянут Арбат. Почему улица и район так называются, никто толком не знает. Самая распространенная версия – про телеги.
Арба – тюркское слово для телег. А здесь как раз неподалеку был Колымажный двор, где их делали. Ну, ничего, что Колымажный двор появился позже первого упоминания «Орбата». Другие версии подходят еще хуже: то ли это от арабского «рабад» – пригород, то ли от русского «орьба» – пахота. Арбатом тогда называли вообще территорию современной Воздвиженки. А на месте нынешней улицы было незаселенное всполье. Но во времена Ивана Грозного Арбат – уже улица, здесь появляется Стрелецкая слобода. Чуть позже к ним присоединились Конюшенная и Плотничья слободы. А рядышком – маленькие Иконная и Царицына слободки. Арбат пытались переименовывать. Алексей Михайлович издал указ – Арбат становится Смоленской улицей. Официально – да, целый век Арбат был Смоленской улицей. Но москвичи этот указ старательно игнорировали в течение нескольких поколений. Как раз примерно тогда, когда уже новый царь сдался и переименовал Арбат обратно в Арбат, улица выгорела. Ее расширили, и из непрестижной окраины она превратилась в желанную среди аристократии. Здесь поселились Долгорукие, Шереметевы, Трубецкие, Голицыны – crème de la crème. Арбат тогда ощущался все еще хоть и богатой, но спальной окраиной. Небольшие домики и особняки в стиле ампир, сады, практически ни одного магазина. Здесь был свой тихий мирок. После наполеоновского пожара в духе Арбата мало что изменилось. Как писал современник: «Большая часть дворянских фамилий живет на Арбате…» На улице тогда начали бывать или даже селились: Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов, Пушкин… Арбат к концу золотого века русской литературы становился все более разнообразным. Купцы разбавляли слишком уж однородный Арбат. Они принесли с собой целый обоз всевозможных новинок, встормошивших засыпавший район: рестораны, магазины, доходные дома, гостиницы. Теперь здесь, спустившись на лифте с последнего этажа доходного дома-тучереза, можно было прогуляться до знаменитой булочной Филиппова, заглянуть по пути за конфетами Эйнема (будущий «Красный Октябрь»), а потом, почему бы и нет, – за вином от Шустова. Все это мы попросим отправить позже на дом, а сами пойдем отобедаем в трактире «Прага».
«Прага» или «Брага»? Когда «Праге» было еще далеко до фешенебельного ресторана, она была простым трактиром, в который приходили поесть и выпить извозчики. Они-то и придумали эту шутку – называли трактир «Брагой», так и понятнее, что там внутри, и московскому уху привычнее. А так с чешской столицей ресторан не связывало абсолютно ничего, просто в Москве была такая мода: называть трактиры и рестораны как европейские столицы.
Прогулявшись по городу, можно было за день посетить «Берлин», «Париж», «Вену», «Дрезден», ну и «Прагу» в придачу. Так бы «Прага» и оставалась пристанищем для усталых извозчиков, если бы не досталась однажды купцу Тарарыкину. Почему-то по поводу именно этой смены владельца стала в Москве популярна легенда о том, что Тарарыкин, мол, выиграл трактир в бильярд. Ничего об этой роковой для «Праги» партии мы не знаем, но с Тарарыкиным заведение преобразилось.
Из трактира оно превратилось в ресторан. Половые в рубахах сменились официантами во фраках, кухня из простой, обильной и грубой превратилась в изысканную и дорогую, а донышко тарелочек украсила надпись «Привет от Тарарыкина!». Гурманы воровали тарелочки себе на память, а Тарарыкину только того и надо было – реклама! На Новый год сувениры дарили уже официально. Традиционно здесь закатывали праздненства военные, а каждая посетительница праздника получала, к примеру, веер с видами ресторана, надушенный французскими духами, – таким был сувенир в 1911 году. Устраивали тематические обеды. Например, здесь праздновали открытие памятника Гоголю с блюдами, названными по «мемам» из произведений писателя: окорок «Бурой свиньи, съевшей прошение Ивана Никифоровича», бараний бок «А-ля Собакевич», суп в кастрюле «Прямо из Парижа». Здание тоже трансформировалось, даже дважды. И оба раза под руководством влиятельнейших архитекторов своего времени: сначала Кекушева, а потом Адольфа Эрихсона – автора особняка Леман и Центральной телефонной станции. В ресторане появилось зонирование, необычно для того времени: 6 залов, 18 отдельных кабинетов, 2 буфета, зимний сад и, конечно, 4 бильярдных комнаты. В одни залы отводили пришедших на деловую встречу, в другие – на романтические свидания, чтобы одни другим атмосферу не портили. Здесь можно было оставить приличную сумму на обед: 2–3 рубля – около 10 % от оклада среднестатистического рабочего. Гиляровский вспоминал, что особенно шикарны были расстегаи «пополам» – из стерляди с осетриной, а бильярды были и вовсе чуть ли не лучшими в городе. К Тарарыкину ходил не один летописец московского быта, с ним там видеться могли: Блок, Чехов, Репин, Шаляпин, Лев Толстой. Борис Зайцев называл «Прагу» «сладостным магнитом» – и был прав, сюда тянуло цвет московского бомонда. Толстой вообще здесь
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.