Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин Страница 36
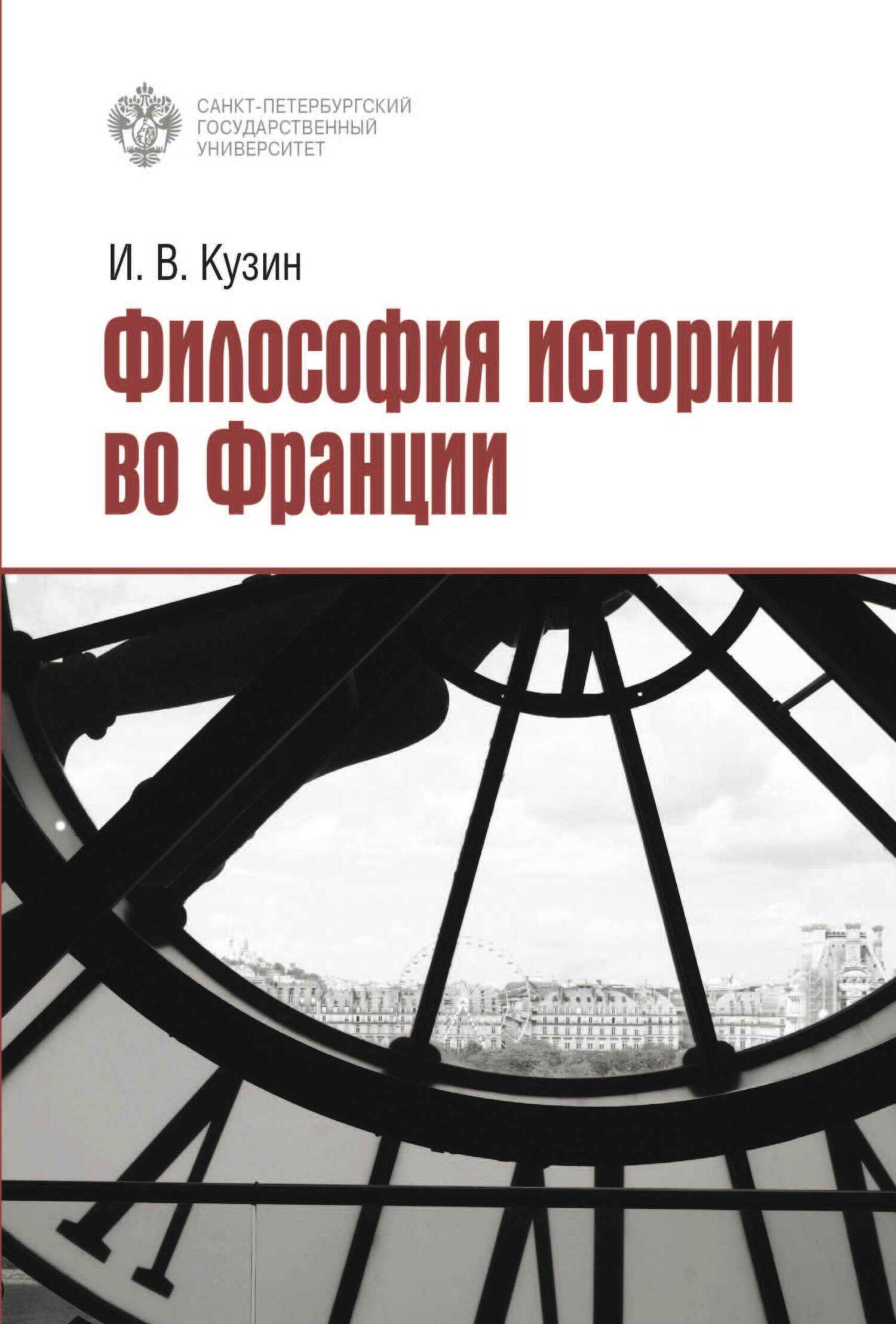
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Воспитание детей, педагогика
- Автор: Иван Владиленович Кузин
- Страниц: 52
- Добавлено: 2025-11-03 14:03:32
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин» бесплатно полную версию:В учебном пособии кратко освещаются ключевые проблемы философии истории, которые формулировались в период становления французской интеллектуальной традиции. Изучение разнообразных подходов к осмыслению истории и сложившихся в контексте этих подходов методологических стратегий постижения истории позволит глубже понять характер французского менталитета и особенности национальной культуры Франции.
Учебное пособие адресовано студентам магистратуры, обучающимся по образовательной программе «Французская философия» направления «Философия», а также может быть полезно и для исследователей иных областей философии и других смежных дисциплин, в которых затрагивается проблематика истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин читать онлайн бесплатно
1) сознание, которое есть порыв вовне, – прочь от своей обременительной связи с актом-существования (благодаря чему и находится выход к миру, но к миру всего лишь как пище);
2) материальность, которая есть оседание сознания в себе, свидетельствующее о неудаче его порыва, что находит свое выражение в формуле равенства самому себе (т. е. материальности) во всех своих внешне-ориентированных действиях.
Мое собственное существование, свободно взятое мною на себя, оборачивается для меня бременем и страданием. За опытом страдания следует смерть, которая и представляет именно другое по сравнению со всем тем, что до сих пор описывалось и что было только моим.
Смерть – это другое, то, что принципиально ускользает от предполагаемого вездесущего господства существующего над актом-существования. Для Левинаса опыт страдания свидетельствует о том, что у существующего недостаточно собственных сил, чтобы распоряжаться всеми возможностями. Смерть есть концентрированное выражение такой невозможности, поэтому она не может быть жизнеутверждающим началом и источником бытия, каким у Хайдеггера выступает бытие-к-смерти.
Смерть как другое я не могу поглотить, как я могу поглощать объекты моего мира в силу моей власти над ним. Смерть – это то, что отвергает акт-существования, отчуждая меня от него, свидетельствуя о возможности такого отделения в бытии, хотя пока что с потерей себя.
Встреча с другим (именуемым Левинасом «женским»: «соотносимым членом пары, т. е. противоположность, оставляющая встреченного тобою совершенно другим, – есть женское»[25]) является тем, что не уничтожает субъекта, как это делает последующая встреча со смертью (другое).
Другой – тайна, не уничтожающая, а дающая жизнь и спасающая. В конечном итоге спасение возможно, если ты не прошел мимо и признал Другого, не объективировал его и не превратил в себя.
Левинас также вводит категорию «отцовства», посредством которой он хочет показать, как преодолеваются прикованность к себе и смерть. Чадородием окончательно устанавливается Другое как другое, но не как абсолютно чуждое мне: «Я начал с понятия смерти и понятия женского, а пришел к понятию сына. …Мысль развивалась диалектически последовательно, отправляясь от тождества гипостазиса, от прикованности к Самому Себе, к сохранению этого тождества, сохранению существующего субъекта, но в освобожденности Я от Самого Себя»[26].
Таким образом, мы имеем дело с двумя свободами: свобода начала (начала себя как гипостазиса) и свобода выбора.
В итоге приходящее «изнутри» субъекта другое дано в двух видах: 1) как смерть; 2) как способность порождать.
Другой нежданно-негаданно встречается существующему, он не естественен, поэтому он и Другой, т. е. всегда событие, а не данность естественного опыта. Другой как событие – это мое (несмертельное) будущее, благодаря чему время обретает свою модальную завершенность, становится оформленной темпоральностью. Время оказывается не фактом одинокого субъекта, а обретением в развитии отношений между людьми, т. е. в истории.
§ 4. Философия истории философии в исследованиях А. Гуйе
В своих теоретических работах Анри Гуйе (1898–1994) ставил задачу показать, что понятия «история» и «философия истории» обозначают две различные позиции.
Понятие философии истории он толкует как рефлексию, открывающую в истории некий план или смысл, выявляющую в ней направления или ритмы. Тем самым история ретроспективно обретает рациональный характер. Понимаемая в таком смысле, философия истории явно противостоит собственно историческому подходу, который должен максимально сохранять свою близость к «жизненному времени» исторической реальности, которую описывает историк.
В деятельности историка выделяются две интенции:
1. Интенция репрезентировать прошлое. В этом случае историк стремится приблизить прошлое к нам, дать его понимание в свете сегодняшнего дня.
2. Интенция делать прошлое настоящим. Здесь историк нацелен на приближение к прошлому ради постижения его таким, каким оно было, когда являлось настоящим.
На основании этих двух задач, которые стоят перед историком, формулируются два способа написания истории:
1. Первый способ основан на том, что историк «пользуется своим положением», когда он смотрит на прошлое «из будущего», т. е. из ситуации, когда все уже свершилось и разрешилось. Прошлое описывается историком так, как если бы ход событий имел определенное направление, которое можно выявить задним числом, при последующем изучении. Ход истории обретает таким образом свое значение. Пусть сам по себе такой подход еще и не говорит об отрицании случайности в истории, но он означает, по Гуйе, определенное ее забвение.
2. Второй способ подразумевает попытку историка стать причастным тому процессу становления, который увлекал когда-то героев его исторического повествования. В случае данного подхода уже не будут работать те схемы, в частности логические, которые применяются, когда используется первый способ. Здесь торжествует уже не континуальность, чреватая забвением случайности и превращением ее в необходимость, а прерывность и случайность, которые и являются условиями подлинной новизны. Именно в них видит Гуйе важнейшие характеристики самой истории, исторического существования.
Историк, полагает Гуйе, может выбирать разные подходы, к тому же в реальной его деятельности они могут переплетаться и смешиваться, нередко выступая в виде различных интенций.
Сам Гуйе являлся сторонником второго подхода, который представлялся ему единственным подлинно историческим, так как позволяет постичь историческую реальность в ее настоящем, избежать, насколько это возможно, перенесения на прошлое объяснений, которые могут быть заимствованы из более поздних времен.
Однако, согласно Гуйе, при доведении этих подходов до логического конца в них обнаруживаются следующие опасности:
1. Сторонники первого подхода рискуют подменить историю философией истории (в смысле, указанном выше). Здесь логика берет верх над историей, т. е. в фактах будут открывать то, что недоступно наблюдению. Философские концепции истории приносят свою пользу, потому что они дают пищу уму исследователям, заставляют задуматься о принципах и методах их деятельности, благодаря чему можно отстаивать и обосновывать специфику и независимость своей работы. Историк должен уметь показывать своим современникам, что ситуации никогда не бывают одинаковыми.
2. Сторонники второго подхода рискуют оказаться в ситуации, вообще исключающей историю. Желание вновь пережить историю-реальность в том, что было когда-то ее настоящим, в пределе вело бы, отмечает Гуйе, скорее к позиции хроникера, чем историка. Вместе с тем практически этот предел никогда не может быть достигнут.
Гуйе также интересовали проблемы, с которыми сталкивается историк, когда он описывает современные ему события. В том случае, когда историк имеет дело с давно прошедшими событиями, у него есть ориентиры, выявленные столетиями, с помощью которых можно утверждать масштаб и значимость того или иного события, той или иной личности (правда, и здесь представления об этом, конечно, могут меняться). Когда же историк обращается к современности, то у него еще нет никаких сложившихся устойчивых иерархий, не вынесены окончательные оценки и не найдены последние слова. Тем не менее историку необходимо выявить то, что в его настоящем имеет подлинную важность, что значимо в сфере литературы, искусства, идей.
Гуйе констатирует,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.