Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин Страница 32
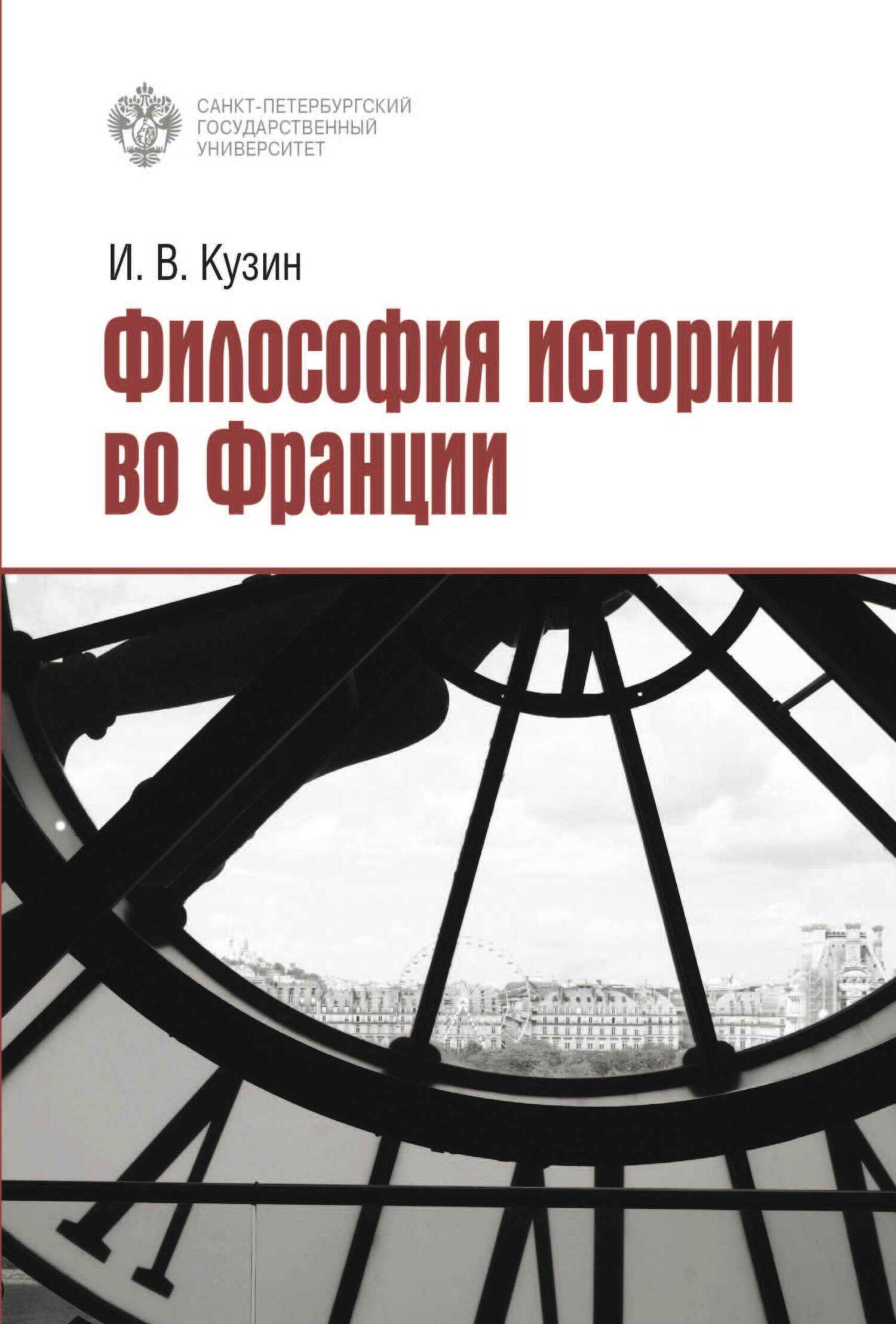
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Воспитание детей, педагогика
- Автор: Иван Владиленович Кузин
- Страниц: 52
- Добавлено: 2025-11-03 14:03:32
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин» бесплатно полную версию:В учебном пособии кратко освещаются ключевые проблемы философии истории, которые формулировались в период становления французской интеллектуальной традиции. Изучение разнообразных подходов к осмыслению истории и сложившихся в контексте этих подходов методологических стратегий постижения истории позволит глубже понять характер французского менталитета и особенности национальной культуры Франции.
Учебное пособие адресовано студентам магистратуры, обучающимся по образовательной программе «Французская философия» направления «Философия», а также может быть полезно и для исследователей иных областей философии и других смежных дисциплин, в которых затрагивается проблематика истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин читать онлайн бесплатно
Тем самым Пеги подходит к созданию своей вертикальной концепции истории, которая основана не на процессе последовательного накопления духовных ценностей, а на стремлении человека (христианина) приблизиться к идеалу, персонифицированному в образах святых и Христа, которому те подражают, т. е. на стремлении вписать свою жизнь в историю вечную и небесную. Связующим звеном между земной и небесной историей для него становится таинство инкарнации.
Не доверяя практике официальной историографии, он требует возврата к изначальному, к тому, что он называл «простой историей». Самым главным в «простой истории» является:
1) отказ от историцизма, который Пеги ассоциирует с детерминизмом, академизмом и официозом, изнашивающими непосредственное, свежее восприятие;
2) интерес не к великим именам и датам, а к простой жизни простых людей, оказавшихся свидетелями тех глубинных исторических процессов, которые приводят к качественным (вертикальным) скачкам в истории.
По существу, Пеги возвращается к древней библейской мудрости Екклесиаста, представлявшего историю человечества как смену эпох подъема и спада, которые у Пеги называются «эпохами» и «периодами», т. е. понимание духовной истории предстает едва ли не как замкнутый циклический процесс.
Таким образом, главной составляющей исторической концепции Пеги становится мистическое мировосприятие, согласно которому историческое событие не является фактом с фиксированной датой, а представляет собой место встречи прошлого и настоящего, определяемого Божественным провидением. Таким образом, Пеги интересовался не столько фактом смены эпох, сколько возможностью уловить и почувствовать момент качественного перехода, того, что он называл «перерождением мистики в политику». Тем самым универсальным инструментом этического исторического анализа эпохи является присутствие в ней мистики, которая становится духовным двигателем и обязательным условием оправдания эпохи в глазах истории.
§ 2. Тематизация борьбы в персонализме Э. Мунье
Эммануэль Мунье (1905–1950) считается одним из основоположников персонализма, центральным положением которого было утверждение, что суть истории – это существование свободных творческих личностей, что история предполагает наличие в своих структурах принципа непредсказуемости, а это, в свою очередь, ограждает ее от жесткой систематизации.
В связи с этим Мунье подвергает критике дух утопии, который вырабатывает схему общества и правила действия, согласующиеся с принципами, которые не учитывают сами события и действующие в истории силы. Ошибкой такого рода утопии является игнорирование смысла конкретной этики, согласно которой ценности открываются не вневременному сознанию, чуждому современной борьбе, а борцу, который определяет свое место в условиях кризиса. Человек обретает ценности, чтобы действовать, и действует, чтобы их обрести.
Мунье делает вывод о том, что всемирная история свидетельствует о возникновении творческой личности в результате борьбы двух противоположных тенденций:
1) постоянной тенденции к деперсонализации, отведения жизненных потоков в безопасные зоны;
2) движения к персонализации, отдельных бросков к вершине, открывающих путь массовому восхождению.
Человека нельзя рассматривать как объект, потому что он единственный, кто обособляется от природы и преобразует ее. И сколько бы жестких детерминизмов ни воздействовало на него, каждый новый из них, открываемый учеными, вводит вместе с тем в нашу жизнь еще одну степень свободы. Поэтому понятие закономерности применимо лишь к материальным явлениям.
Вместе с тем Мунье убежден в том, что между вечным смыслом и частным «материальным» смыслом существует «глубокое родство»: «Моя личность воплощена. Следовательно, она никогда не может полностью избавиться от материальных зависимостей, от тех условий, в которых она пребывает. Более того, она может превосходить себя, только опираясь на материю. Стремление уклониться от этого закона заранее обрекает ее на поражение: тот, кто хочет быть ангелом, становится грубым животным. Проблема состоит не в том, чтобы отказаться от чувственной жизни, от жизни среди вещей, внутри ограниченных обществ, в гуще событий, а в том, чтобы преобразовать саму жизнь»[21].
Присутствующее у него восхваление материи в рамках «духовного» не является сугубо умозрительным. Такое соотнесение духовного и телесного, вечного и исторического имеет практическое значение, потому что создает основу для критики пессимизма и «демистификации» катастрофизма, к которому склонялись многие современные ему представители «духовности». Он считал, что присущий им первобытный страх является фобией творцов, каковыми мы являемся по предназначению. Некогда этот страх был связан с неукротимой природой, теперь он переживается перед лицом мира людей.
Критикуя чрезмерный пессимизм, Мунье прежде всего хотел выявить и объяснить антитехницистский миф, показывая, что опасность для человеческого мира идет не столько от машины, сколько от всех абстрактных механизмов, от всех «посредников», которых человек ставит как между собой и вещами, так и между собой и другими людьми, – право, государство, институты, науки, языки и т. п. Движение к искусственному миру свидетельствует о том, что человек имеет не только свою «природу», но и свою «историю», которая все больше приближает человека к смыслу христианской трансценденции.
Такое понимание означало, что идея прогресса и идея регресса не исключают из истории двойственной возможности – окостенения и освобождения, шанса и опасности. Задача человека заключается в том, чтобы использовать предоставленный ему шанс, потому что у множества личностей нет общей истории, так как каждая из них – сама себе история.
Тем не менее все же существует и единая история, ибо есть единое человечество. Но если на историю накладывать некую схему, то она будет становиться объектом, переставая быть ценностью, т. е. она станет фатальной, ее нельзя будет выбирать и, следовательно, она будет лишать нас свободы. Для личности такая перспектива неприемлема, поэтому историю следует мыслить как сотворчество свободных людей.
Первым условием любого творчества является согласие с реальным существованием вещей, потому что сам объект не является частью воспринимающего сознания. Такое согласие является лишь первым шагом к со-творчеству истории, потому что если мы сверх меры будем приспосабливаться к вещам, то мы будем попадать к ним в рабство. Человек, сведенный к своей производственной или социальной функции, – всего лишь винтик в системе, что лишает возможности свершаться будущему, которое не наступает автоматически. Будущее зависит от личного выбора каждого из нас.
Мунье вопреки «трагическому оптимизму», хочет возбудить в душе человека чувство «активного пессимизма», т. е. чувство уверенности, опирающееся на опыт борьбы, иногда омрачаемый поражением. В результате, с одной стороны, имеется тяготение к оптимизму как конечному результату исторической драмы; с другой – признание того, что история многозначна и что в ней уживаются наилучшее и наихудшее.
Но в любом случае свобода должна взять в свои руки структуры истории, что не происходит мгновенно. Пространство между наличной историей и историей творимой становится
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.