Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин Страница 31
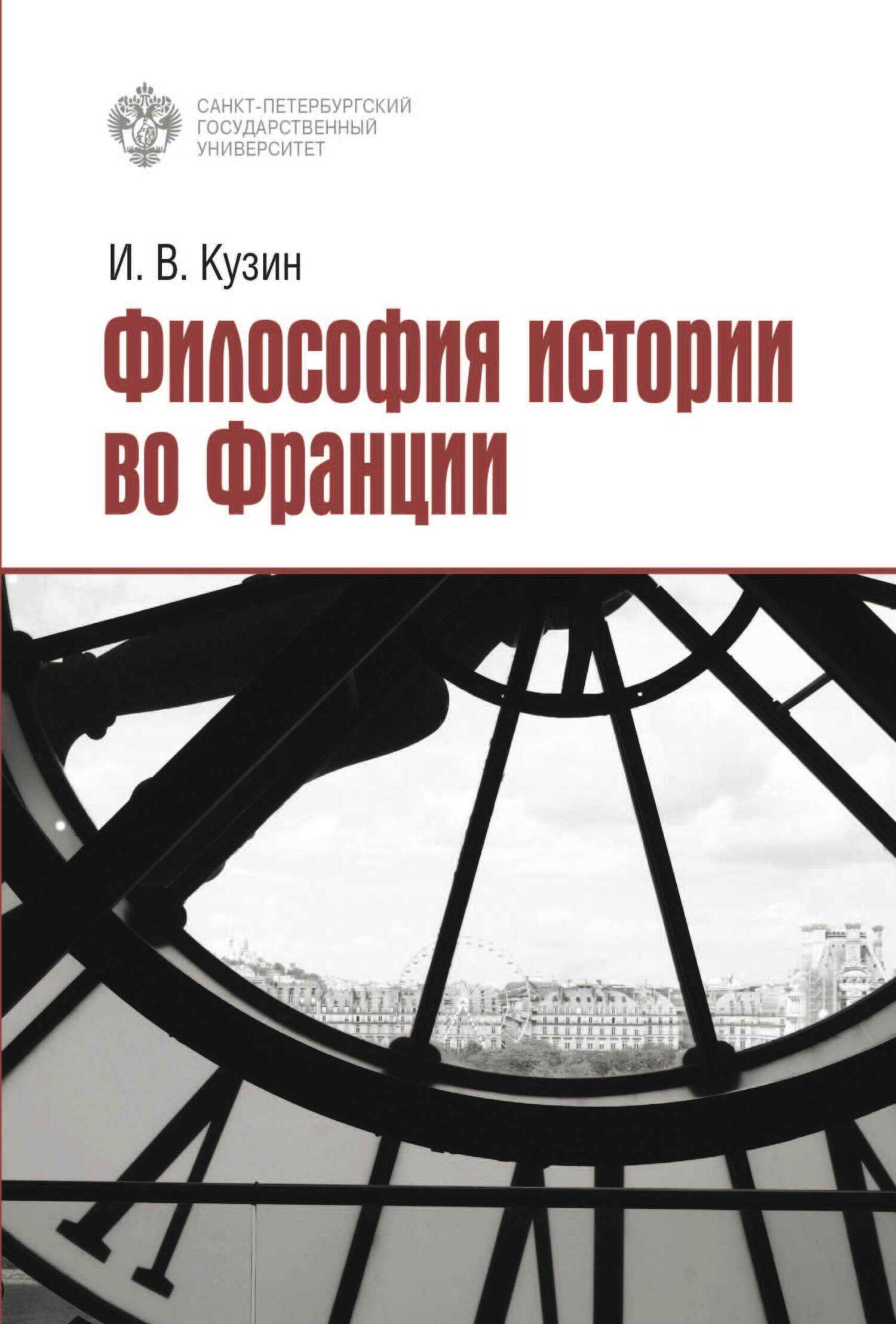
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Воспитание детей, педагогика
- Автор: Иван Владиленович Кузин
- Страниц: 52
- Добавлено: 2025-11-03 14:03:32
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин» бесплатно полную версию:В учебном пособии кратко освещаются ключевые проблемы философии истории, которые формулировались в период становления французской интеллектуальной традиции. Изучение разнообразных подходов к осмыслению истории и сложившихся в контексте этих подходов методологических стратегий постижения истории позволит глубже понять характер французского менталитета и особенности национальной культуры Франции.
Учебное пособие адресовано студентам магистратуры, обучающимся по образовательной программе «Французская философия» направления «Философия», а также может быть полезно и для исследователей иных областей философии и других смежных дисциплин, в которых затрагивается проблематика истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин читать онлайн бесплатно
Поскольку риторические нормы играют существенную роль в построении исторического дискурса, Шартье большое внимание уделял роли текста в историческом анализе.
Для него тексты как таковые не имеют устойчивого, универсального смысла. Разные читатели в разных обстоятельствах понимают их по-разному. Возможности «единства интерпретации» ограничены множественностью культурных расслоений. Поэтому понимание текста напрямую зависит от форм, «с помощью которых читатель и достигает определенного понимания», и едва меняются эти формы, как текст изменяет свой статус и значение: «…Главное для нас – понять, каким образом можно было по-разному воспринимать, использовать, понимать одни и те же тексты. Далее следует реконструировать системы практик, которыми обусловлены исторически и социально дифференцированные способы доступа к текстам. Чтение – это не только абстрактная умственная операция: в него вовлечено и тело, читатель вписывается в некое пространство, вступает в некие отношения с самим собой и с другими. Поэтому особого внимания заслуживают способы чтения, исчезнувшие из нашего, современного мира»[20].
Например, способ чтения молча, одними глазами, – это всего лишь современная форма чтения, но были и другие формы. Поэтому необходимо всегда иметь в виду существование множественности пониманий.
Шартье закладывает фундамент для нового направления в историко-культурных исследованиях – истории чтения, – цель которого состояла в изучении параметров, определяющих восприятие письменных текстов в различные эпохи, в различных культурных средах и «читательских сообществах».
Подобный подход предполагал радикальный сдвиг традиционной историографической перспективы: историк должен был опираться не только на какие-либо документальные свидетельства (они могли и отсутствовать), но и на формальные характеристики самих текстов, печатных или рукописных, т. е. всегда следует учитывать, что любые формы производят смысл и что при изменении носителей, делающих текст доступным для чтения, меняется и значение, и статус этого текста.
Семантика произведения является исторически подвижной, и в каждой конкретной исторической ситуации она складывается заново под действием трех равноправных факторов:
1) авторской интенции, с которой естественным образом связывалось представление об «истинном смысле»;
2) навыков и обычаев данной читательской среды или группы, способной «вчитывать» в текст свои, порой неожиданные, смыслы;
3) материальных параметров носителя текста – от формы книги, шрифта и титульного листа, расположения страниц, способа рецитации и т. д., указывающих на вероятную аудиторию произведения и исторические координаты его восприятия.
Вместе с тем, несмотря на то, что ученый-историк, подобно литератору, генерирует тексты, риторические приемы которых не позволяют отличить их от вымышленного рассказа, Шартье выступает против научного релятивизма. По его мнению, применение риторических приемов вовсе не доказывает, что мир социальных и культурных практик тождествен своей дискурсивной (риторической) модели. Он полагает, что именно «зазор» между реальностью прошлых эпох и репрезентациями этой реальности, с которыми имеет дело историк, и обуславливает новые методы исторического исследования.
Способ чтения, задаваемый читателю нормами историографического письма, отличается от литературного тем, что он подразумевает привлечение таких элементов, которые воплощают установку на правдивость и верифицируемость, характерную для научного дискурса. Читателю об этом сигнализируется, например, посредством цитат и библиографических ссылок.
Стратегия Шартье позволила обозначить границу между историей чтения и герменевтикой. Если герменевтика стремится выявить универсальные законы восприятия текстов, то история чтения настаивает именно на их историческом, подвижном характере, а ее задачей является проследить семантические трансформации, которые претерпевает текст на разных временных этапах своего существования, в различных социальных слоях.
Такой подход к историческому тексту приводит Шартье к заключению о том, что история не дает нам никаких уроков, потому что знание о прошлом никогда не позволяло ни управлять настоящим, ни тем более предсказывать будущее. Поэтому это и не относится к задачам историка. Его задача – создавать понятийные структуры, позволяющие нам осмыслять хаотическую россыпь привычных и странных, загадочных и банальных, великих и мелких фактов; проще говоря, если история чему-то и учит, то пониманию, которое никогда не бывает результатом, а только процессом.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992.
Арьес Ф. Время истории. М.: ОГИ, 2011.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986.
Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008.
Бродель Ф. Очерки истории. Исторические технологии. М.: Академический проект; Альма Матер, 2015.
Бурдье П., Шартье Р. Люди с историями, люди без историй // НЛО. 2003, № 60.
Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.
Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб.: Инапресс, 1998.
Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // НЛО. 2004. № 66.
Шартье Р. История и литература // Одиссей. 2001. М.: Наука, 2001.
Шартье Р. Новая культурная история // Homo historicus. К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного. М.: Наука, 2003. Кн. 1.
Шартье Р. Письменная культура и общество. М.: Новое издательство, 2006.
Furet F. L’atelier de l’histoire. Paris: Flammarion, 1982.
Chartier R. Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude. Paris: Albin Michel, 1998.
Chartier R. Le sociologue et l’historien. Marseille: Agone & Raisons d’Agir, 2010.
Labrousse E. La Crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution. Paris: P. U. F., 1944.
Глава 7
Религиозные концепции философии истории
§ 1. Вертикальная концепция истории Ш. Пеги
Отличительная черта творческой личности Шарля Пеги – умение видеть в конкретном факте и историческом событии проявление глобальных и универсальных законов истории.
Ш. Пеги (1873–1914) был убежден в существовании всеобщих исторических законов и закономерностей, однако видел историю не как хронологически поступательный процесс, подразумевающий эволюцию общества и человека, а как некое спиралевидное движение, внутри которого, удивительно повторяя друг друга, смыкаются разные эпохи.
Не принимая позитивистского подхода к истории, он разрабатывал метафизическое и антирационалистическое понимание истории. Он разуверился в методах современной ему исторической науки и пришел к пониманию сомнительности идеи материального прогресса. Объяснялся этот скепсис осознанием того, что историческая память является функцией власти, определяющей, как следует представлять прошлое. Его критика была обращена на официальных историков Сорбонны и Высшей нормальной школы, в результате чего вырабатывался его собственный стиль написания истории, в основе которого была приверженность художественным методам.
Развенчивая политику и идеологию, он все же находит альтернативу и оправдание истории. Она предстает у него как некий текст, создаваемый творцом, которого он интерпретирует двояко: и как Творца-Бога, и как творца-художника. Особую роль здесь играет момент присутствия: как Бог присутствует в каждом своем творении в каждый момент человеческой истории, так и творец-художник присутствует внутри своего произведения, являясь правдивым свидетелем описываемых людей и событий.
Несмотря на то, что современный мир, как считает Пеги, изменил христианству,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.