Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин Страница 30
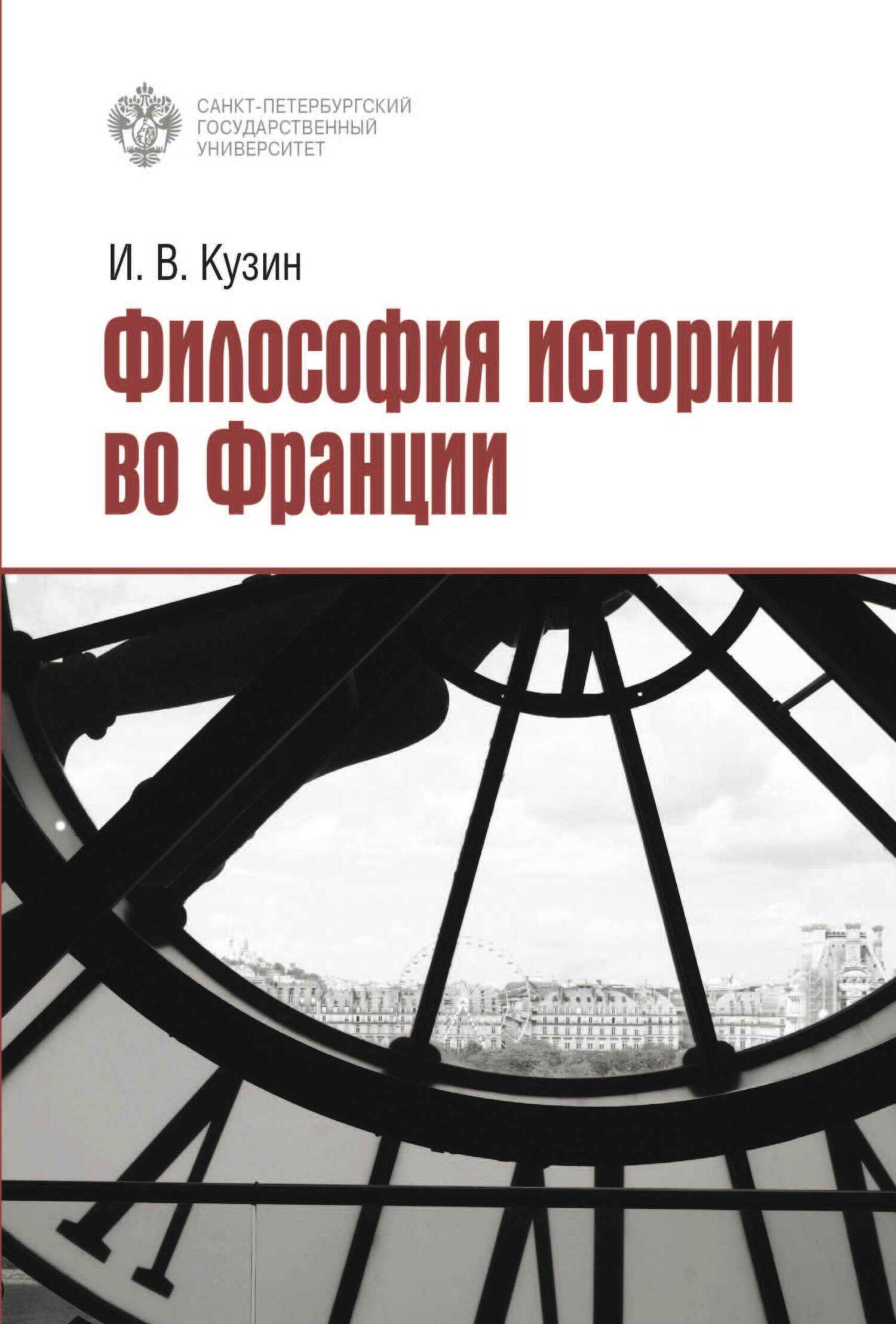
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Воспитание детей, педагогика
- Автор: Иван Владиленович Кузин
- Страниц: 52
- Добавлено: 2025-11-03 14:03:32
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин» бесплатно полную версию:В учебном пособии кратко освещаются ключевые проблемы философии истории, которые формулировались в период становления французской интеллектуальной традиции. Изучение разнообразных подходов к осмыслению истории и сложившихся в контексте этих подходов методологических стратегий постижения истории позволит глубже понять характер французского менталитета и особенности национальной культуры Франции.
Учебное пособие адресовано студентам магистратуры, обучающимся по образовательной программе «Французская философия» направления «Философия», а также может быть полезно и для исследователей иных областей философии и других смежных дисциплин, в которых затрагивается проблематика истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин читать онлайн бесплатно
Так, в Средние века история основывалась на хронологиях исключительно личного характера. Монахи, так же как короли и графы, записывали свои собственные версии прошлого, и каждая группа формировала свое представление по-разному. Получались некие острова исторического времени в море коллективной памяти, несовместимые друг с другом линии времени, поскольку служители церкви соперничали с королями за то, чтобы выдвинуть именно свою формулу разметки прошлого.
Как только в XVII столетии короли Франции консолидировали свою власть, они свели эти несоизмеримые традиции в рамках одной единственной роялистской историографии. Начиная с этого времени политика стала основой современных исторических сочинений. В XVIII в. заветным желанием историков становится стремление свести тотальность прошлого к одной единственной хронологии. Тем самым возникающая тогда современная историография разорвала свои связи с коллективной памятью, передаваемой от эпохи к эпохе множеством живых народных традиций. Прошлое, пробуждаемое мнемоническими местами, сменилось прошлым, размеченным событиями на абстрактной линии времени. Идеал общительности сменился в наши дни идеалом общественной дисциплины, поддерживаемой ради планов на будущее, что сильно способствовало углублению потребности в индивидуальной идентичности и автономии. Это нашло свое отражение и в сравнительно недавнем появлении потребности хранить память о личности простых людей. Чрезмерное выражение горя об утрате любимого и потребность сохранить память о его жизни выдвинулась на первый план в западной культуре только в XIX столетии.
Однако старые способы мышления не исчезли полностью, а продолжают существовать вместе с новыми, хотя их значение постоянно уменьшается. Поэтому возврат, как утверждает Арьес, к коллективной памяти по-прежнему возможен, так как для большинства публичный мир политики всегда находился на втором плане, а высокоиндивидуализированный кодекс современной жизни не может не возбуждать желания вновь открыть потерянный мир общительности, оставшийся в прошлом.
Арьес был одним из первых, кто высказал тревожное предположение, что наша способность запоминать прошлое зависит от тех, кто в настоящее время определяет официальную память нашей культуры. Но это же обращает нас к пониманию необходимости сохранять почтительность к тем особым традициям, в которых все же формируется человек.
§ 6. Развенчание Ф. Фюре нарративной истории
Франсуа Фюре (1927–1997) ставил перед собой задачу показать, что историческое событие больше зависит от образов, через которые это событие репрезентируется, чем от тех или иных реальных фактов, например социальных переворотов (как в случае с революциями).
Более значимы не столько сами события, сколько риторические утверждения об их смысле. Именно образы, которые привносятся в политические дискуссии, устанавливают лингвистический код, которым начинают пользоваться при воспоминаниях о событии. Таким образом, согласно Фюре, то, что остается доступным из представлений о Французской революции, связывается не с реконструкцией направления ее замысла, а с описанием образов, изобретенных ее участниками и увековеченных историками. Фюре, можно сказать, подготовил путь для деконструкции мнемонических мест французской нации, которую предпринял через несколько лет П. Нора.
По утверждению Фюре, то, что историки левых взглядов представляли в качестве социальной революции, было на самом деле революцией в риторике. Якобинцы оказались теми, кто смог начать формировать общественное мнение посредством своего образа речи, поэтому якобинство стало самым важным наследием революции, т. е. его влияние обусловлено не столько представленностью партией, сколько тем образом речи, который установил конвенцию революционного дискурса. Якобинский дискурс был больше чем идеологией, так как он стал конституционным модусом новой политической культуры. Поэтому, как и Фуко, Фюре выдвигает предположение, что дискурс является первичным элементом новой исторической реальности.
Созданный якобинцами словарь под видом нравственных проблем кодировал политические дискуссии о будущем, перенеся тем самым аспект нравственного авторитета и идеологии на второй план. С точки зрения Фюре, революция стала важнейшим событием скорее вследствие изобретенного ею символического политического языка, чем в силу тех социальных преобразований, которые ей обычно приписываются. Если у Мишле история была связана с поддержкой традиции, то у Фюре, наоборот, она требовала деконструкции коммеморативных форм.
Он считал, что одержимость прежних историков поиском оригинальных документов, их ориентация только на текст показывали историю не в виде событий, а как комплекс политических документов, что вело к упрощенным моделям интерпретации.
Фюре, восхищаясь солидной фактической базой исследований, умением правильно разбираться в сложных ситуациях, видит во всем этом ограниченность, т. е. реализацию лишь одной идеи – сохранения памяти (в частности, о революции), реконструированной для того, чтобы соответствовать планам на будущее (сначала якобинским, а позже и коммунистическим). За реализацией этой цели оказывался проигнорированным целый ряд вопросов, которые были оставлены без ответов. В частности, отмеченная однобокость предшествующей историографии не позволяет проинтерпретировать и понять власть как воображаемый дискурс. Видение же истории через такую призму уничтожает традицию, поэтому можно смело утверждать об исчерпанности духа Французской революции и что якобинская традиция также завершила свой путь.
Призыв Фюре к интерпретации данных при помощи воображения был с восторгом подхвачен академическими историками, так как благодаря этому историк может достигать близости к самым разным традициям, создавая фундамент для интеллектуальной рефлексии и раздумий о потомках.
§ 7. Р. Шартье о роли текста в историческом анализе
Роже Шартье (род. 1945) предложил программу преодоления эпистемологических трудностей исторической науки, включающей в себя отказ от трех идей:
1) от проекта глобальной истории (Ф. Бродель);
2) от территориального определения объекта исследования;
3) от понимания социальных дифференциаций как «логически первых», в силу того, что существуют некие культурные дифференциации, не сводимые к социальным.
Шартье включился в полемику по поводу способности исторической науки давать объективное, верифицируемое знание о прошлом, в результате чего заключил, что история не столько изучает некие внеположные ей объекты, сколько создает их, так как деятельность самого историка состоит в порождении новых текстов повествовательного характера, подчиняющихся тем же риторическим нормам, что и тексты литературные, вымышленные.
Однако, в отличие от литератора, историк зависим от источников, критериев научности и технических операций. К таким основным специфическим дисциплинарным процедурам исторической деятельности Шартье отнес:
1) конструирование и обработку данных;
2) производство гипотез;
3) критику и верификацию результатов;
4) проверку адекватности между дискурсом знания и его объектом.
Тем самым Шартье отверг и литературную, и естественно-научную модели истории. История является научной практикой, которая в своем производстве знания зависит от вариаций технических процедур и принуждений,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.