Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин Страница 21
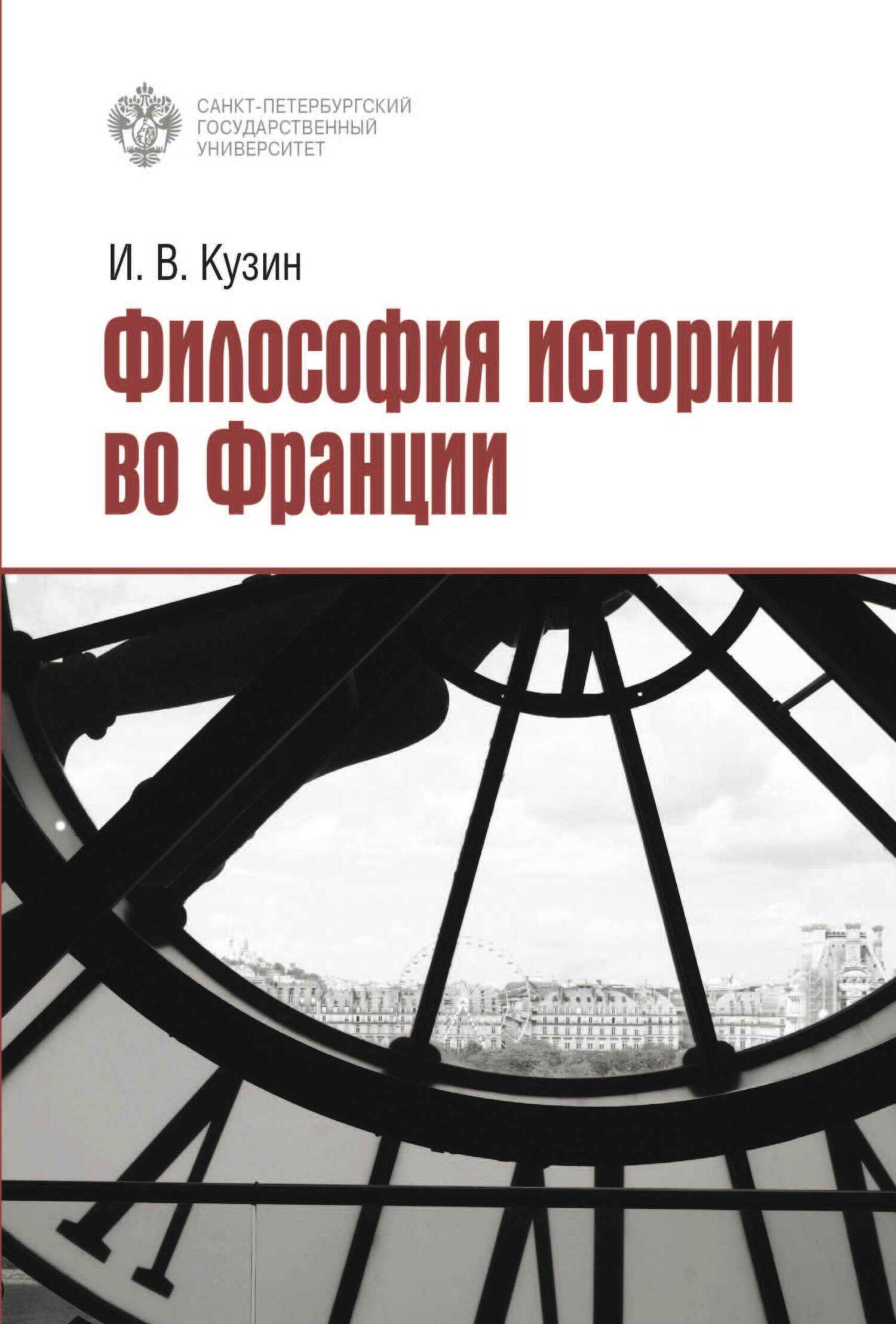
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Воспитание детей, педагогика
- Автор: Иван Владиленович Кузин
- Страниц: 52
- Добавлено: 2025-11-03 14:03:32
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин» бесплатно полную версию:В учебном пособии кратко освещаются ключевые проблемы философии истории, которые формулировались в период становления французской интеллектуальной традиции. Изучение разнообразных подходов к осмыслению истории и сложившихся в контексте этих подходов методологических стратегий постижения истории позволит глубже понять характер французского менталитета и особенности национальной культуры Франции.
Учебное пособие адресовано студентам магистратуры, обучающимся по образовательной программе «Французская философия» направления «Философия», а также может быть полезно и для исследователей иных областей философии и других смежных дисциплин, в которых затрагивается проблематика истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Философия истории во Франции - Иван Владиленович Кузин читать онлайн бесплатно
В известной книге Вена «Как пишут историю. Опыт эпистемологии» дается анализ того, что и как изучает история.
В классической историографии дискутировался вопрос о «событийности» истории: в чем состоит природа исторических событий, какова их специфика и можно ли говорить о наличии у них смысла и ценности. Вен полагает, что сущность и телеология истории зависят от выбора ракурса. Однако из этого вовсе не следует, что мы получаем субъективистскую позицию, допущение произвола в осмыслении истории, так как этого не позволяет сделать сама история. Ведь основополагающим в постижении событий истории являются документы и свидетельства, т. е. оставленные «следы» – источники.
Изложение истории является нарративом, но рассказ при этом ведется не о похожих на правду (подобно роману) или о вовсе не существующих (подобно сказке), а о достоверных фактах. Историческая нарративность отрицает наличие у истории свойственного ей исторического метода, определенных правил исторического синтеза, с помощью которых мы могли бы утверждать, что представляли собой события прошлого «на самом деле». За исключением существования норм обращения с источниками, для историка не существует нормативного знания, поэтому история обречена быть «увечным знанием»[12]. Это означает, что у историка событийность прошлого выступает не таковой, какой она была, а такой, какой мы ее знаем или готовимся еще познать. Тем самым в концепции Поля Вена характерными признаками истории всегда будут оставаться ее непоследовательность, прерывистость и наличие в ней множества пробелов.
Из этого следует, что к сущности истории не относятся ни ее смысл, ни ее ценность. Такого рода рассуждения свидетельствуют либо о догматичности мышления историка, либо о его иллюзорных представлениях. В поле интереса истории находится повторяемость событий, всегда воспроизводимых в своей специфичности, в которой можно находить даже нечто типическое. Таким образом, историчное – это то, что предстает в особых событиях, имеющих человеческую размерность, которые одновременно не могут быть сведены ни к универсальности, ни к абсолютной неповторимости.
Это положение Вен проясняет посредством определения различия между «событийным полем» истории и историей как жанром, передающим разницу ее восприятия на протяжении веков.
«Событийное поле» истории – это поле допредикативных очевидностей. На фундаменте «событийного поля» становится возможным формирование исторического жанра и связанной с ним интриги. Вен считает, что напряжение между событийностью и не-событийностью истории может быть снято именно с помощью вводимого им понятия интриги.
Несобытийное – это та сфера истории, которая как таковая нами не воспринимается. Оно заполняет смутное поле истории и отличается от сферы интриги, в которой события предстают отчетливо и, будучи состоявшимися, становятся предметом исторического жанра.
В связи с этим понятие времени теряет свою обязательность для историка, так как более важным для него оказывается понятие процесса, существо которого как раз таки и задается интригой. История тем самым приобретает книжное, а не экзистенциальное значение, поэтому к любому историческому познанию следует относиться в первую очередь как к обретению знания, а не в свете того, что историческое знание – это интуиция.
Тем не менее доминирующая претензия истории быть объяснительной наукой не встречает у Вена поддержки. В своем подходе он придает иной смысл понятию «объяснение», видя в нем способность историка прояснять интриги и выявлять те значения, которыми историк наделяет свой рассказ. Привычное представление объяснения событий как установление между ними причинно-следственных связей кажется Вену малоубедительным. Невозможность вразумительности такого объяснения обусловлена тем, что объяснение одного историка никак не мешает другим предлагать иную связь причин и следствий, создавая новую последовательность событий и формируя другую повествовательную интригу. Из этого Вен делает вывод, что не существует законов самой истории, однако возможно создавать законы в истории.
В такой модели историческое объяснение может выстраиваться посредством соединения событий с помощью одной из схем:
1) случайность – через которую объяснение полагает историю в качестве театра, где судьба играет нашими планами, благоволя им или их разрушая;
2) объективные обстоятельства – при такой схеме история объясняется как комплекс «материальных причин», что наиболее полно было раскрыто в марксистской концепции исторического развития;
3) свободное движение мысли – в контексте такой схемы речь ведется о «конечных причинах», к которым могут быть отнесены абсолютная идея, нравственные, эстетические и другие принципы, благодаря которым прошлое может быть объяснено и понято. Эта схема обычно оказывается востребованной различными идеалистическими концепциями.
В результате в концепции Вена история лишается как онтологии, так и собственного метода. Все же существующие исторические теории и типологии являются лишь сжатыми пересказами интриги. Имеющиеся, а во многом и эпистемологически обязательные, понятия объяснительной истории не отражают всего многообразия конкретных вещей, потому что изменение вещей происходит быстрее, чем изменение слов.
Поэтому история – не научная дисциплина, а «произведение искусства», и ее методом может быть только опыт, который и будет определять наличие у истории специфической исторической объективности. Сама история не имеет ни законов, ни ценностей, так как все объяснения ее событий несут на себе отпечаток субъективности, которая передает нам сведения о тех или иных индивидуальных интересах и недостижимых для наблюдения целях, порой совершенно необъяснимых. Как следствие, одной из самых непростых проблем исторического синтеза становится проблема отношения между сознанием и поступком.
На основании этого делается заключение, что к истории неприложимо понятие прогресса. Если и возможно вести речь о каком-либо прогрессе в истории, то только в отношении поступательного освобождения истории от связывания ее с прогрессом. Кроме того, такая исключительная возможность появляется, если иметь в виду форму прогресса истории, а именно – способы описания истории, т. е. увеличения, их разнообразия в процессе движения истории, подобно тому, как это происходит при освоении искусства рисования.
§ 4. Невозможность «воскрешения» прошлого в исторической эпистемологии М. де Серто
Мишель де Серто (1925–1986) полагает, что для современной западной историографии характерно представлять историю через разрыв между прошлым и настоящим. На основе такого понимания он развивает и свои методологические принципы, которые могут быть рассмотрены в качестве герменевтической разновидности исторической эпистемологии.
Серто описывает ситуацию проблематичности и – более того – невозможности «воскрешения прошлого», так как в процессе исторических исследований ученый отмечает, что чем дольше он работает со своим объектом, с прошлым, тем больше этот объект становится неуловимым: «На первом этапе научные исследования напоминают работу вязальщика, который, извлекая из мусорного ведра тряпье или остатки одежды и давая всему этому вторую жизнь на конце своего крючка, погружается в мечту о доме, в который он никогда не войдет, о трапезе и интимном общении, которых
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.