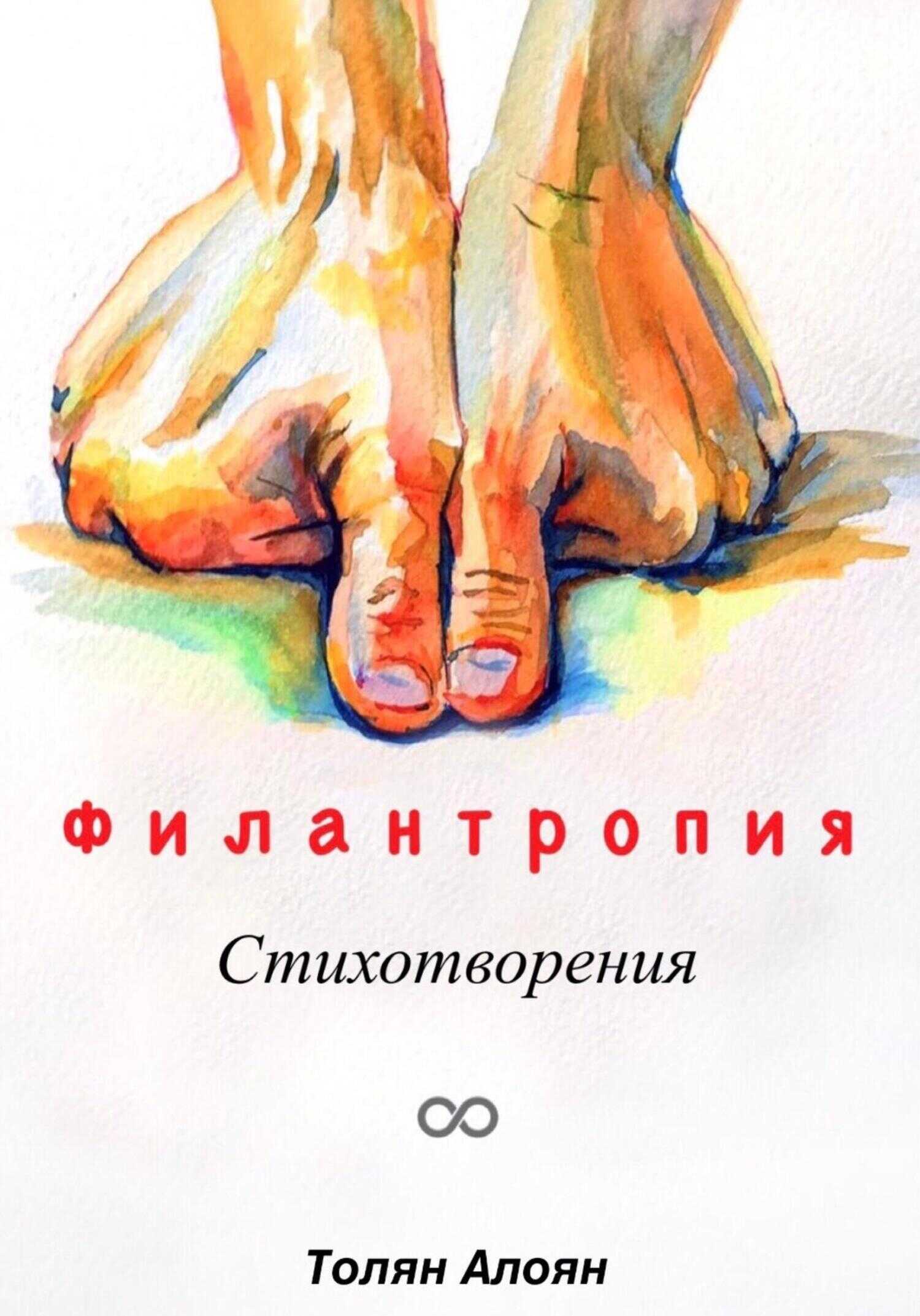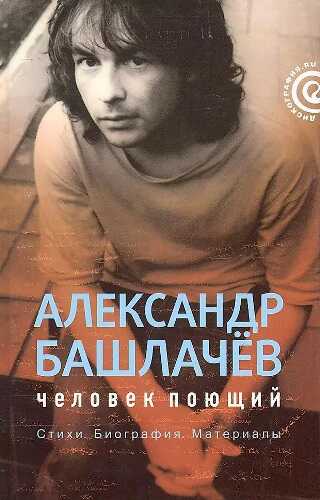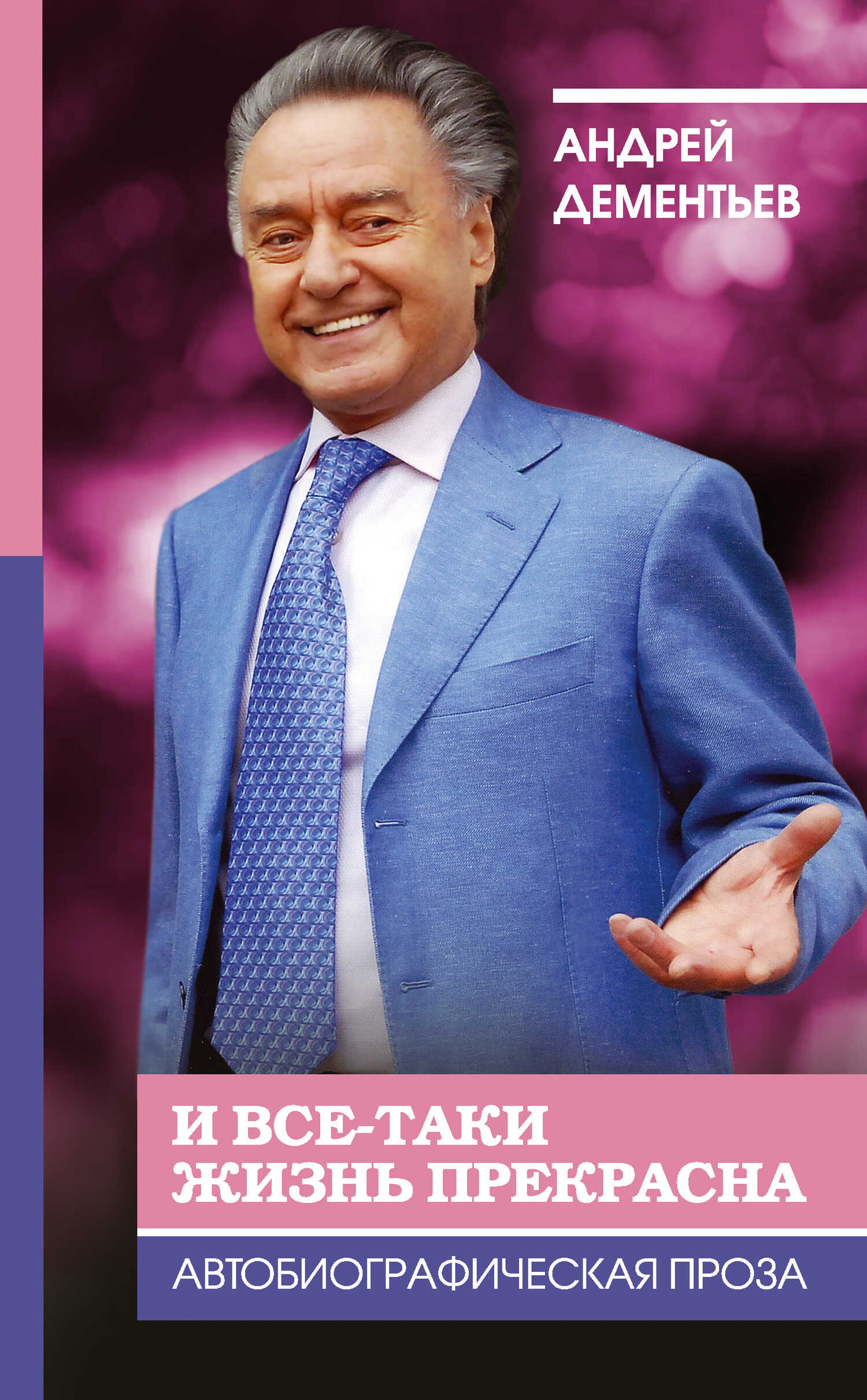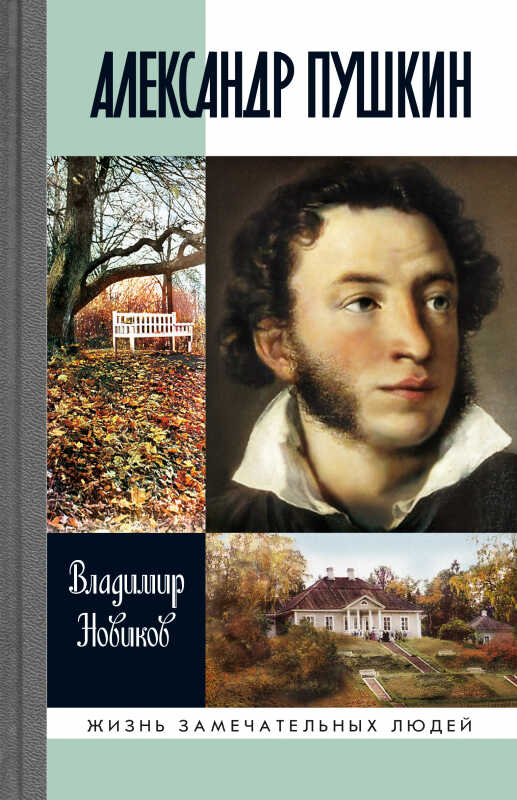«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова Страница 19

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Елена Генделева-Курилова
- Страниц: 58
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:35
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу ««Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова» бесплатно полную версию:28 апреля 2025 года Михаилу Генделеву исполнилось бы 75 лет. «Поэт невероятного, головокружительного масштаба, он явно не занял того места в русской словесности, которое ему полагается по праву» (Михаил Эдельштейн). Сборник, приуроченный к юбилейной дате – это попытка друзей поэта, бывших рядом с ним в Ленинграде, Москве и Иерусалиме, создать портрет яркой и парадоксальной личности, гения двух стран и двух культур, автора концепта «израильской литературы на русском языке» и одного из самых ярких ее творцов. Важная часть этого портрета – избранные произведения Михаила Генделева, абсолютно узнаваемые не только по фирменной «бабочке» стихотворных строф, но и по мощи и оригинальности поэтического высказывания.
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова читать онлайн бесплатно
Сайгонская атмосфера для Генделева была органичной и вполне комфортной, тому свидетельство – ностальгические иронические зарисовки, какими он в «Великом русском путешествии» запечатлел это пристанище и его обитателей. «Сайгон» – врата в воображаемый поэтический Эдем, тем более притягательный, что в него невозможно проникнуть через горнило Союза советских писателей, а здесь у всех на виду дефилируют все подлинно творческие силы. Занимаясь стихописанием всё с большей энергией и упорством, Миша немало был озабочен формированием своей поэтической репутации в кругу блистающих на сайгонском небосклоне беззаконных звезд, но в предотъездные годы она была безупречной только среди друзей-поклонников из «ближнего круга». Составитель антологии неофициальной петербургской поэзии В. Топоров утверждал, что Генделев «был в своем поколении не первым и не вторым, а, скажем, седьмым, одиннадцатым, шестнадцатым»,[23] а в дружеском послании, описывающем наши домашние посиделки, он же без обиняков заявлял:
И Генделев Миша
Решит заглянуть.
Ужасные вирши!
Прекрасная грудь!
(последняя строка подразумевала спутницу Миши – Леночку). Миша не обижался на Топорова (чего еще от него, Зоила, ждать!), но, конечно, бывал иногда уязвлен. Правда, уже в статусе маститого «израильского поэта, пишущего на русском языке» (его формульная самоаттестация), он фактически солидаризировался с Топоровым – о своих ранних, петербургских поэтических опытах отзывался исключительно непечатными словами; выстраивал эволюцию: от изданного в 1979 г. «Въезда в Иерусалим» (о котором просил не упоминать) к «Посланиям лемурам» (книга переходная, в которой местами звучит формирующийся собственный голос) и затем к «Стихотворениям Михаила Генделева. Иерусалим, 1984», уже вполне адекватному воплощению творческого «я».
В своем поэтическом самосознании Миша большое внимание уделял школе мастерства, технологии стихотворчества в тесной связи с положениями общеэстетического порядка (экстракт этих соображений дан в «Заметках о поэзии», приложенных к рукописи сборника «Въезд в Иерусалим»); свои творческие интуиции он пытался поверять филологическими трудами по поэтике: изучал, среди прочего, книгу Б. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (свой экземпляр «опоязовского» издания ее перед отъездом подарил мне). Не получив, в отличие от старших представителей андеграундного поколения, таких как Виктор Кривулин, Елена Шварц или Сергей Стратановский, университетского филологического образования, Генделев готов был на свой лад мифологизировать факт профессиональной филологической специализации как некое «избранничество», овладение особым слухом, дающим возможность интерпретировать плоды словесного творчества согласно подлинной ценностной шкале, наиболее тонко и глубоко. Думаю, что причастность к профессиональному историко-литературному труду была веской причиной того внимания, которое Миша выказывал по отношению к моей персоне. В тех немногочисленных случаях, когда мы оказывались вдвоем, он чаще всего инициировал разговор на литературные темы и, конечно, о своих стихах; моим достаточно невнятным и косноязычным суждениям о них он готов был придавать какой-то особенный вес, в наивной убежденности, что диплом «филолога-русиста» наделил меня особым даром распознавания художественных ценностей. В первые месяцы нашего общения он закончил и сформировал второй сборник стихов «Танец (Книга Треф)», вокруг которого в основном тогда и велись дебаты; машинопись книги, мне подаренная, датирована 18 октября 1975 г.
«Великое русское путешествие», с. 55: «Женщина-химик Лариса Гершовна», она же «женщина строгого поведения и хороших манер, отличный товарищ и дама достойная во всех отношениях, но тоже из друзей моих веселых лет» (переоформляю цитату из дательного падежа в именительный, других искажений оригинала нет).
Подлинное имя – Ольга Гершовна Егудина, многолетний, наверное, самый преданный друг Генделева из числа петербуржцев (в 2024 г. ушедшая вослед Мише, Леве Щеглову, Саше Рюмкину, Тане Алексеевой, да и многим другим посетителям ее гостеприимной квартиры в угловом доме на Фонтанке, напротив Михайловского замка). Мы встречались с Мишей до его отъезда в коммунальной квартире на Таллинской улице (Малая Охта), в которой он с Леночкой снимал комнату, и в нашей микроскопической комнате в коммуналке на Большой Зелениной (Генделев тогда в непосредственной близости работал – точнее, имитировал трудовую деятельность – спортивным врачом в клубе «Буревестник» на Малой Невке), и у Щегловых, но в жилище Оли Егудиной проходили, помимо дружеских пирушек, и «Генделевские чтения» – Мишины публичные выступления, на которые приглашались, помимо «своих», сторонние слушатели, в том числе малознакомые и незнакомые мне люди. Обычно все начиналось чинно и «тонно», но с переходом творческого вечера в завершающую алкогольную стадию собрание приобретало свой естественный вид и иногда продолжалось уже вне дома, под колоннами Михайловского замка. После знаменательного возвращения Миши в 1987 году последовали его регулярные, уже почти будничные, наезды в Петербург, и квартира Оли по-прежнему служила основным местом встреч с ним всё тех же друзей детства, отрочества, юности.
Преимущественно там же проходили и предотъездные действа весной 1977 года. Решение об отъезде вынашивалось долго: Генделев был крепко связан со своей средой, с родным языком (а способностями к усвоению иностранных языков не блистал), никаких профессиональных заделов к адаптации в другой, незнакомой социальной обстановке не имел, – однако чувства возобладали над доводами разума: «шестая часть земли с названьем кратким Гнусь» (слова Есенина в редакции Генделева) становилась, усилиями властвующих в ней «шестикантропов», все более невыносимой. Родители очень тревожились – понимали, что предстать в советской стране советским поэтом Мише не светит и впереди лишь статус люмпен-интеллигента из «Сайгона», им уже обретенный, но что его ждет в новом мире – полная неясность. Самуил Михайлович, Мишин отец, вызывал меня на доверительные беседы (видимо, Миша внушил ему свою убежденность в особой весомости моих суждений) – спрашивал, правильное ли решение принял его сын, сможет ли он себя обеспечить, получит ли он литературное признание и т. д.; конечно, я не мог ответить ничего определенного и обнадеживающего, кроме того, что хуже, чем в СССР, ему на новообретенной родине не будет.
Тема национальной самоидентификации разрабатывалась Генделевым и в ранних стихах, но в преддверии отъезда она вышла на первый план. Последнее крупное произведение, написанное им в Петербурге, – поэма «Диаспора», насыщенное трагическими мотивами и риторическим пафосом многословное величание своему народу и своей исторической родине. Казалось, что поэт наконец преодолел во многом надуманную метафизику, пронизывавшую и отягощавшую его прежние тексты, и заговорил о жизненно для него важном и подлинном. Все близкие восхищались, только Топоров после чтения поэмы в Олиной квартире огорошил автора экспромтом: «Генделев протянет ноги на пороге синагоги». Закончив поэму, Миша взялся за подготовку итогового для своего «петербургского периода» сборника, в котором избранные стихи из ранее сформированных книг «Сад» и «Танец» вместе со стихами последующего времени объединялись в новую композицию под заглавием «Въезд в Иерусалим». Не доверяя собственному вкусу и приобретенным навыкам, Генделев решил привлечь к составлению книги меня. Разумеется, в лексическую фактуру и ритмическую организацию стихов я не вмешивался, но делился с автором советами по части отбора
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.