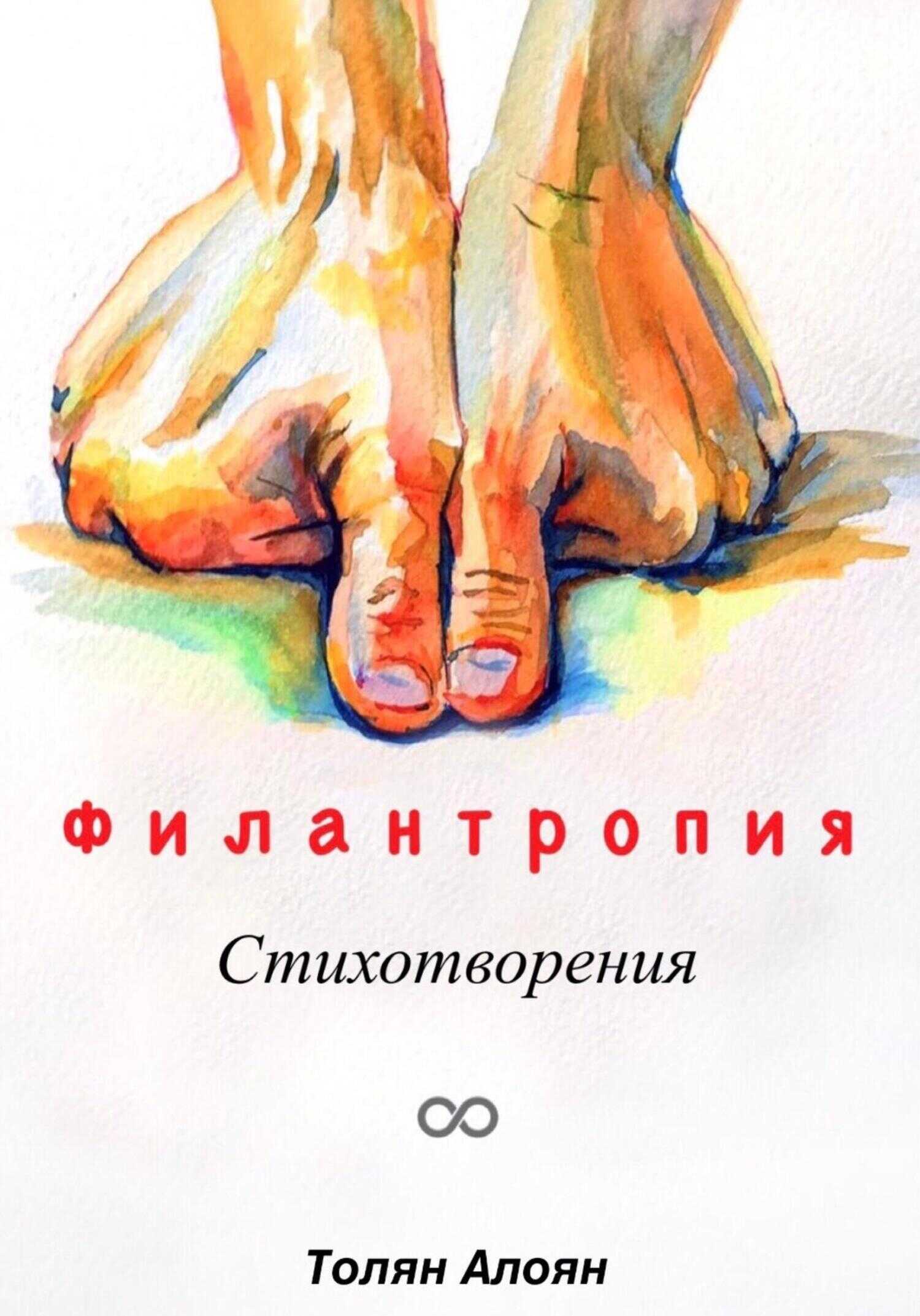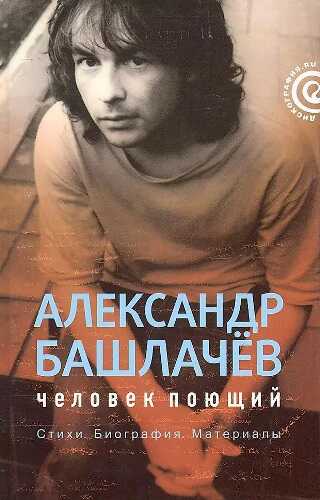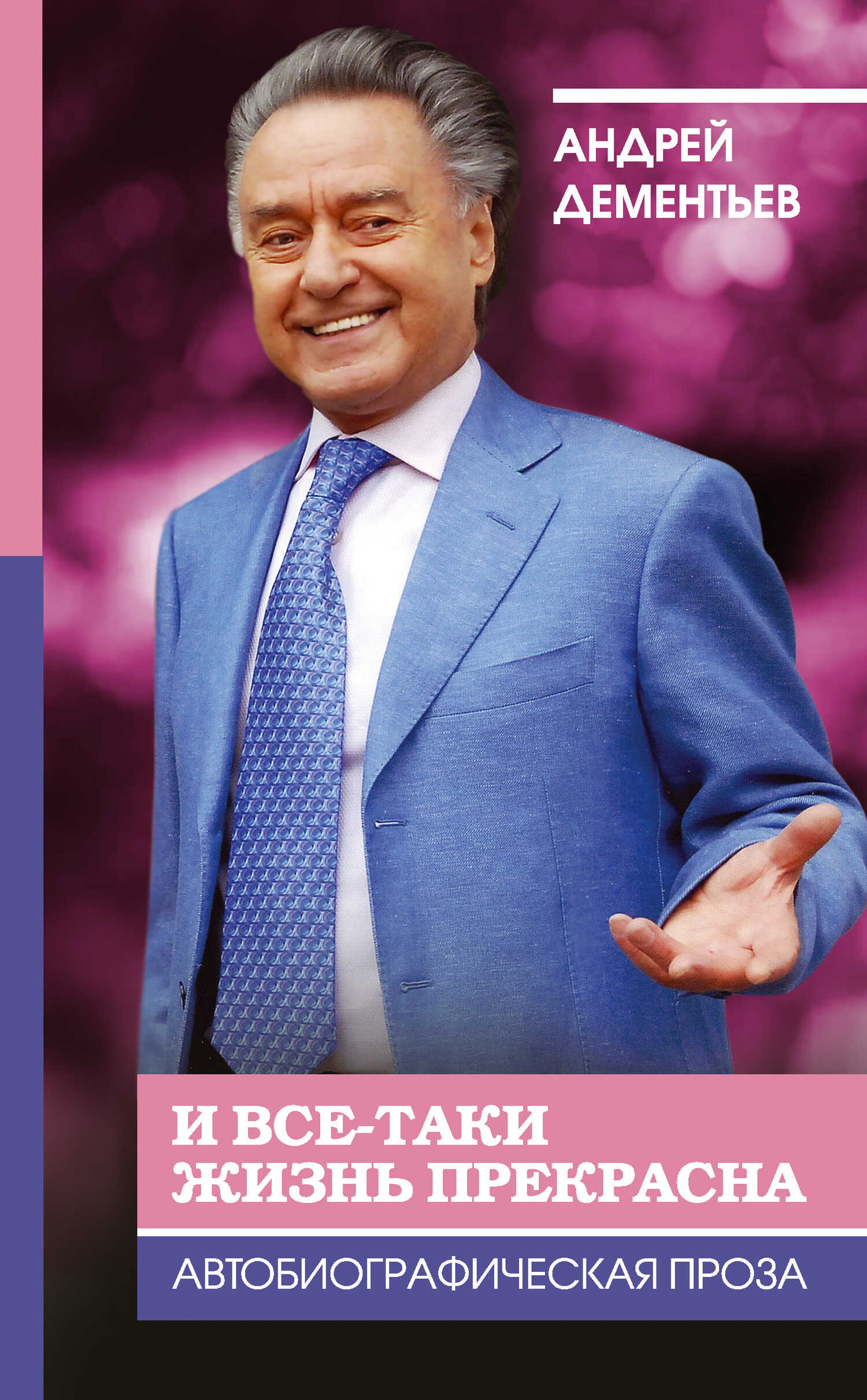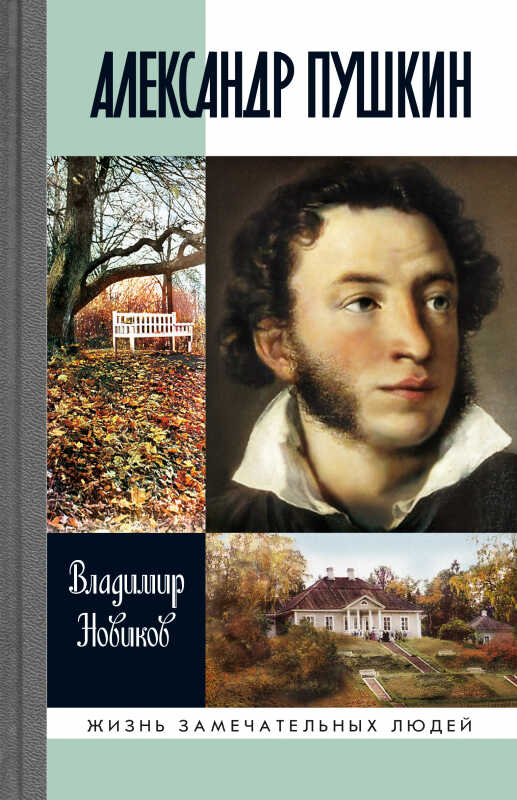«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова Страница 12

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Елена Генделева-Курилова
- Страниц: 58
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:35
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу ««Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова» бесплатно полную версию:28 апреля 2025 года Михаилу Генделеву исполнилось бы 75 лет. «Поэт невероятного, головокружительного масштаба, он явно не занял того места в русской словесности, которое ему полагается по праву» (Михаил Эдельштейн). Сборник, приуроченный к юбилейной дате – это попытка друзей поэта, бывших рядом с ним в Ленинграде, Москве и Иерусалиме, создать портрет яркой и парадоксальной личности, гения двух стран и двух культур, автора концепта «израильской литературы на русском языке» и одного из самых ярких ее творцов. Важная часть этого портрета – избранные произведения Михаила Генделева, абсолютно узнаваемые не только по фирменной «бабочке» стихотворных строф, но и по мощи и оригинальности поэтического высказывания.
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова читать онлайн бесплатно
по домам
мою душу
мертвецов своих отвести
тополиный вам пух красавцы
климат континентальный сух
в отлетающем парке царском
пух
земля
по краям лица вам!
и
под ягелем
тоже – пух!
Этими строками уже занималась Майя Каганская, но жанр некролога не позволил ей войти в детали:
«Тополиный пух и старинное русское напутствие усопшему: “да будет земля тебе пухом” сопрягает Генделев в одном из ранних воспоминаний о родном городе, устланном тополиным пухом мраморно-гранитном гнезде русских поэтов: “тополиный вам пух красавцы <…> / пух / земля / по краям лица…”.
Срочный перевод общеязыковой идиомы в приватную поэтическую речь – это уже росчерк зрелого Генделева. Не язык, а речь, не Россия – русские поэты»[9].
Итак: ностальгия по русским поэтам, от Пушкина до Мандельштама. Где бы они ни находились: от Царскосельского парка, заметаемого пухом знаменитых тополей, до ГУЛАГа, где – ягель (олений мох).
Парономастический намек на Пушкина можно расслышать и в самом троекратном упоминании пуха. И юные бачки у него такие же, «по краям лица», и пахнет безвременной смертью от этой юности. У самого Пушкина слово пух в этом значении встречается дважды, причем в знаменитых текстах:
Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.
«Полтава», 1828, опубл. 1829
…Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом…
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем.
«Клеопатра», ред. 1828
В первом из этих двух отрывков еще не оперившаяся юность, почти детство, семантически смыкается со старостью, словно бы очерчивая полный жизненный цикл. Во втором речь идет о том безымянном юноше, что отдал жизнь за ночь хотя и плотских, но поистине неземных наслаждений с Клеопатрой – самою Смертью.
Но и Мандельштам утверждает: «мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года». И у него же – родственный карнавалу венский вальс, «из гроба в колыбель переливающий, как хмель»[10].
Эта архетипическая парадигма «очень низко плавает», как любил говорить Генделев. Недаром на языке еврейских мудрецов материнское лоно зовется могилой[11], да и русская формула мать-земля несет в себе тот же самый оксюморон. Она, (русская) земля, родит и безвременно призывает в свое лоно (русских) поэтов, по которым – романс «Ностальгия»:
пух
земля
по краям лица
II
Певец-пловец. От Ариона к нарциссорфею или орфеонарциссу
Итак, подчиняясь симметрии рождения и смерти, поэт умирает, чтобы родиться в вечность, иную форму бытия (ср. в романсе «Близнецы»: «Смерть и бессмертие – два близнеца: / эта усмешка второго лица / так же придурковата / и у сестры и у брата»). Да и при жизни ему случается описывать мир как бы оттуда. Метафизический двойник, «симметрия», «зеркало» – главные орудия генделевского постижения-описания мира. Не зря все его стихи уложены «бабочкой», имеют четкую ось симметрии. Но дело в том, что его симметрия – лишь сложная оптическая иллюзия, утверждающая знак тождества между объектами и явлениями, ни в коей мере не идентичными и порой даже друг другу не близкими по своей сути, и зеркала никогда не отражают того, что перед ними находится. При этом поэт чаще всего выступает в роли наблюдателя, натуралиста, объективного исследователя, чуть ли не беспристрастно изучающего и описывающего потусторонние глубины собственного я, явленные в зеркале. Причем нам, читателям, никогда не ясно, с какой стороны ведется наблюдение – оттуда или отсюда:
Опыт изображения живой природы
Он в черном блеске времени возник
мой ангел, брат мой, мой двойник,
и в миг
как слёзы заблистали
лик ослепительный
исчез,
тотчас звезда рассыпала хрусталик,
а об другой расплющил ноздри бес.
Из книги «Послания к лемурам», 1981
Бес неслучаен, и очень скоро мы увидим, почему. Но в данном кратком этюде поэт еще не преодолевает пренебрежимо-тонкую, исчезающую границу «зеркальной поверхности» между лицевой стороной и изнанкой мира, лишь плотно прижимаясь к ней и отражаясь в виде беса. Либо – «бес» есть вполне материальный Генделев, увиденный «близнецовым» собой с той стороны «времени». Кроме того, уже здесь мы наблюдаем поэта-Нарцисса, завороженного собственным отражением-двойником, оборачивающимся поэтом-Орфеем, который нисходит в ад ради неизбывной любви к Смерти. Процесс этот взаимообратим: Орфей вновь обретает Нарциссовы черты и т. д. Ниже речь пойдет о перевертыше Нарциссорфее-Орфеонарциссе.
Зеркала явно и неявно присутствуют во многих текстах Генделева, но, пожалуй, наиболее декларативен в этом смысле «Новый Арион, или Записки натуралиста». Это цикл из семи небольших стихотворений, а точнее – маленькая семичастная поэма. Почему именно «записки натуралиста» – более-менее понятно из отмеченного выше. А вот при чем тут Арион и почему он «новый», не помешает прояснить. Арион (конец VII – начало VI в. до н. э.) – легендарно известный эллинский лирический поэт и блистательный музыкант-кифаред. Однажды он плыл на корабле с заработанными своим искусством сокровищами. Моряки решили убить Ариона, чтобы завладеть его богатством. Арион высказал последнее желание: спеть перед смертью. Ему позволили, и, спев, он бросился с корабля в открытое море – в смерть. Но не погиб! Очарованный волшебным пением, дельфин подхватил Ариона на спину и вынес на берег.
Однако в наши дни Арион куда менее знаменит, чем многие другие мифологические персонажи. Могут вспомнить о нем разве что благодаря хрестоматийному, но вяловатому пушкинскому «Ариону» (1827), из-за которого Генделев и назвал своего «Ариона» «новым». Пушкин уподобляет себя в этом стихотворении оставшемуся в живых певцу, в то время как всех корабельщиков погубила буря[12]. Согласно традиционному толкованию, имеется в виду подавленное восстание декабристов. Нет, трудно признать какую-либо по-настоящему глубокую связь между двумя «Арионами»[13]. Вместе с тем и у Генделева «Арион», похоже, маскирует собой кого-то другого, более известного и значительного.
Сосредоточимся на первой главке его маленькой поэмы:
Даже
последнюю строку
мою
припишут двойнику
а – я
лицо свое второе
лицо
соленое пловца
в стекло зеленое зарою
до тыльной
стороны
лица
чтобы
один в себе одном
со вкусом хруста амальгамы
лететь
я
знаю что над самым
я знаю что над самым
дном.
Здесь мы видим, что поэт буквально врезается в зеркальную поверхность – до «хруста амальгамы» – которая оказывается на поверку как бы водной средой, где можно легко перемещаться вплавь. Точно как в двух первых фильмах знаменитой орфической трилогии Жана Кокто: «Кровь поэта» (1932) и «Орфей» (1950)[14]. В первом из них Поэт, пока еще прямо не названный Орфеем, нырнув в зеркало как в вертикальную стену воды, плывет во тьме «над самым дном» и попадает в коридор с четырьмя комнатами. По очереди он припадает к замочным скважинам, в конечном счете узнавая среди непонятных предметов и явлений себя и только себя.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.