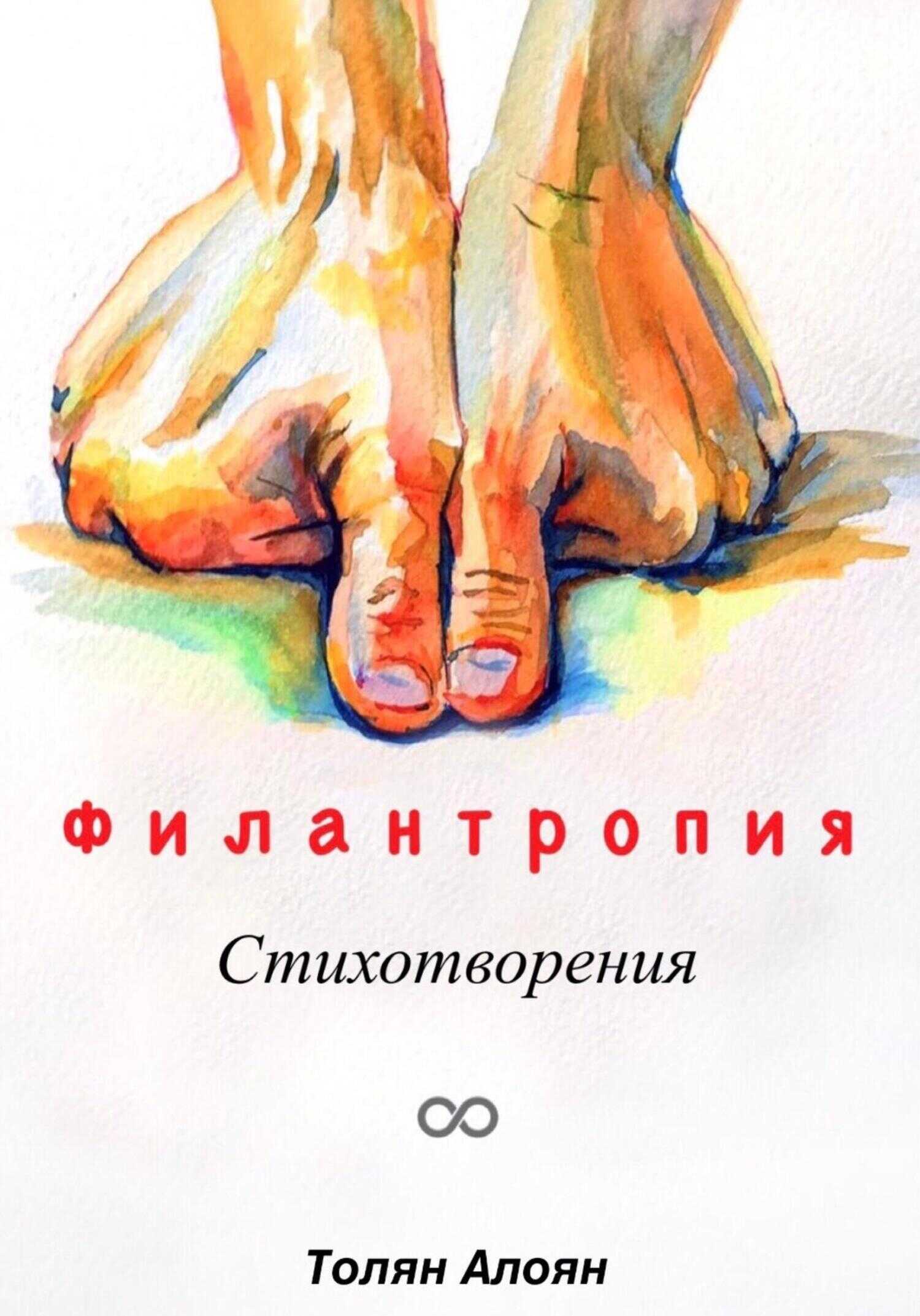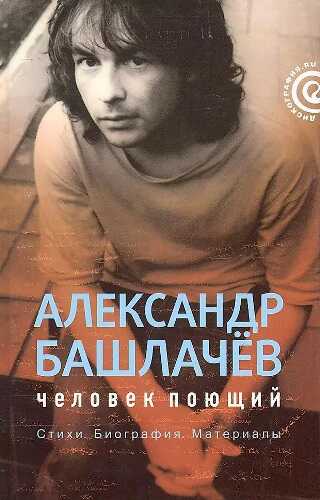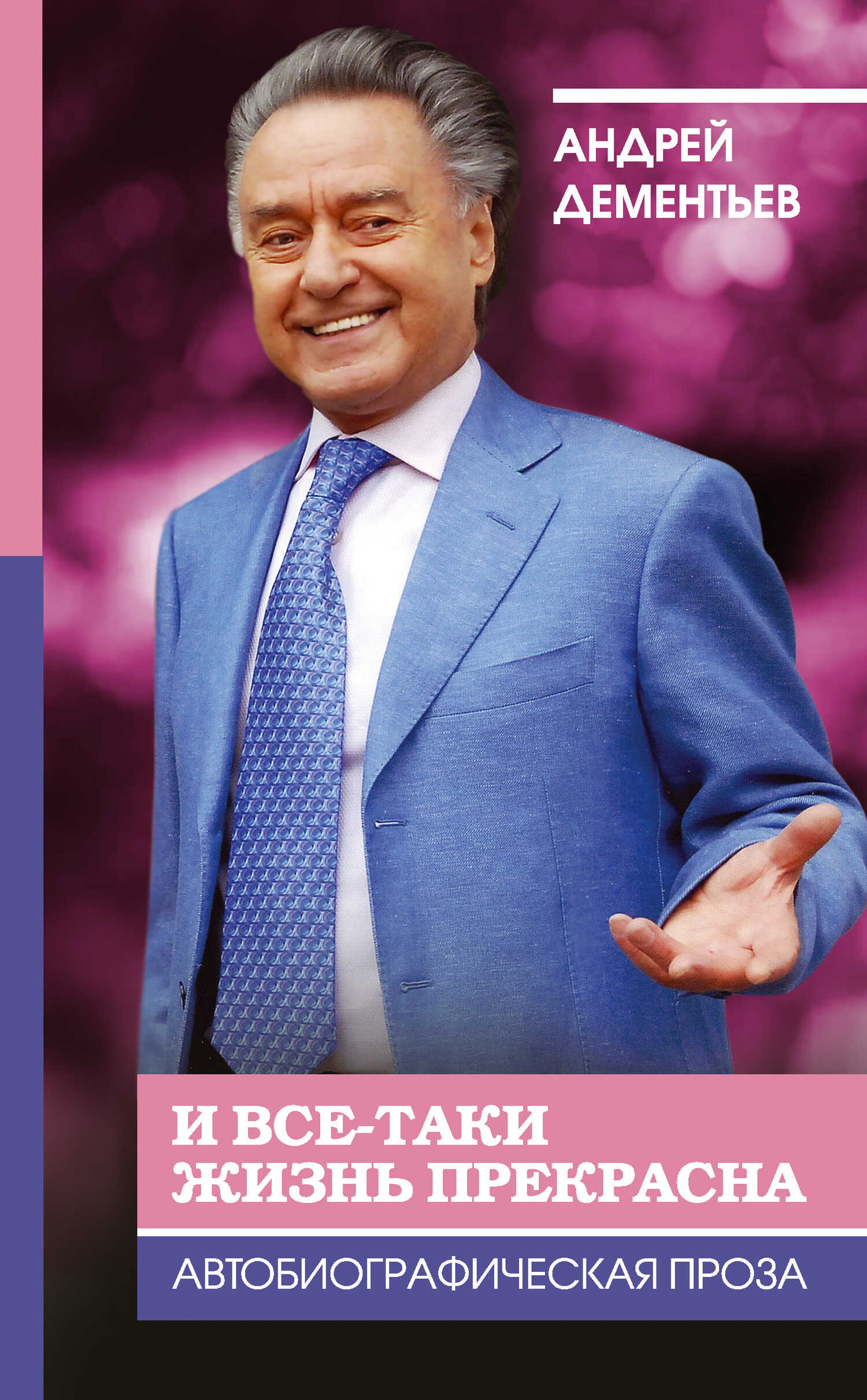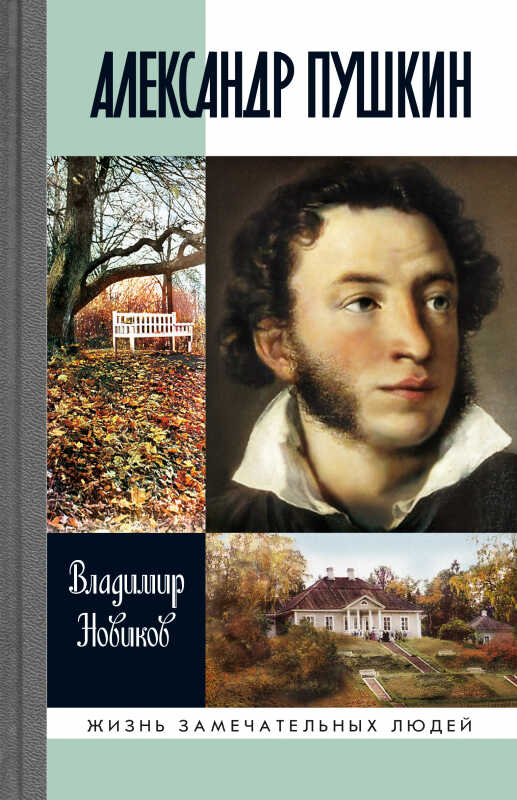«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова Страница 11

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Елена Генделева-Курилова
- Страниц: 58
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:35
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу ««Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова» бесплатно полную версию:28 апреля 2025 года Михаилу Генделеву исполнилось бы 75 лет. «Поэт невероятного, головокружительного масштаба, он явно не занял того места в русской словесности, которое ему полагается по праву» (Михаил Эдельштейн). Сборник, приуроченный к юбилейной дате – это попытка друзей поэта, бывших рядом с ним в Ленинграде, Москве и Иерусалиме, создать портрет яркой и парадоксальной личности, гения двух стран и двух культур, автора концепта «израильской литературы на русском языке» и одного из самых ярких ее творцов. Важная часть этого портрета – избранные произведения Михаила Генделева, абсолютно узнаваемые не только по фирменной «бабочке» стихотворных строф, но и по мощи и оригинальности поэтического высказывания.
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова читать онлайн бесплатно
Меня Командир наградил
Затем я врожденную ловкость
За место причины схватив
Всегда был за твердый как логос
За нравственный императив.
Присутствие в этом тексте в непосредственной близости друг от друга таких понятий, как «дендизм», «свобода воли» и «нравственный императив», не оставляет у меня сомнений в том, что стихотворение это написано под влиянием одного эпизода, входившего в комплекс обычных между нами взаимоотношений: «разговор-спор-ссора-порча дверей», состоявшегося между Мишей и мной, очевидно, в августе 2006-го, как отмечает поэт. Точной даты я не помню и разговор не записывала, однако могу пояснить, что имелось в виду под словом «дендизм» в этом разговоре, а также откуда взялся в непосредственной связи с «дендизмом» твердый, как логос, нравственный императив.
Что до свободы воли – это тема особая. К упоминаемому разговору термин был приплетен ввиду обсуждения одного из моих романов. В ходе этого обсуждения неожиданно для меня выяснилось, что по вопросу о свободе воли между мной и Мишей существуют кардинальные разногласия, что и подвигло Генделева на очередное свержение нашей несчастной двери с петель. Относительно же двух других понятий согласие было почти идиллическое и разговор журчал, как родник среди мирных незабудок. Именно потому ограничусь комментариями только к этим консенсусным понятиям, оставив освещение спорного понятия усилиям другого комментатора.
Дендизм означает для одних только помешательство на модных тряпках, но для других – это сложное этико-эстетическое построение, стоящее на эстетстве, интеллектуализме и солипсизме особого героического толка.
В последние десятилетия вопрос о сути дендизма стал весьма актуален, и ему посвящено немало исследований. На мой взгляд, самым интересным из них является 500-страничная монография Мартина Грина «The Children of the Sun: A Narrative of Decadence in England after 1918». Об этой книге и о книге Ольги Вайнштейн «Денди» мы с Мишей и говорили, обсуждая дендизм как явление.
Общий интерес нашего времени к дендизму не случаен. Современный бухгалтерский историцизм, требующий дать название и определение любому явлению, не может пройти мимо того факта, что между Байроном и Дизраэли, Мюратом и Бодлером, Оскаром Уайльдом и Саррой Бернар, Марселем Прустом и Вирджинией Вулф, Дягилевым и Маяковским, группой «Битлз» и Василием Аксеновым, а также – да! – Михаилом Генделевым есть нечто общее. Это нечто по своим внешним проявлениям весьма похоже на феномен, определяемый как дендизм, то есть особый стиль поведения, являющийся реакцией на любое «дежа вю», на все залежавшееся, заплесневевшее и требующее полного обновления – от стиля прозы, музыки и танца до стиля жизни и политического мышления. А поскольку встречают нас все-таки по одежке, этот фасад личного стиля имеет для денди далеко не последнее значение.
Не стану настаивать на том, что Миша всегда относил себя к денди, что и понятно: болеть дендизмом, имея за плечами Кембридж, а в списках гостей – одних лишь выпускников Тринити-колледжа, легко и приятно; иное дело – играть в эту игру, в лучшем случае, с выпускниками «Сайгона». Вместе с тем, во время памятного разговора у меня создалось впечатление, что определение пришлось Мише впору и не требовало перешива, что доказывается строчкой из упомянутой баллады.
Поэтому, помня и принимая во внимание суть наших бесед с Мишей на эту тему, а их было несколько, я бы толковала строчку «В не есть человечину кроме дендизма я вкус находил» таким образом: дендизм не находит прелести в том, что является обыденным развлечением масс, но мне не нравится есть человечину еще и по другим причинам. А далее, как мы помним, упоминаются свобода воли и нравственный императив. Однако мне бы хотелось задержаться на феномене дендизма.
Одной из отличительных черт дендизма, во всяком случае, в интерпретации Оскара Уайльда, коего Миша весьма почитал и, по собственному его признанию, любил перечитывать, является игра с масками. Понятие маски у Уайльда весьма близко к понятию индивидуального стиля, если понимать стиль не как нечто соприродное индивидууму и вырабатываемое им как продукт секреции, а видеть в нем личину, которую можно надеть и снять. Личина, или маска, определяет все проявления личности и вовсе не подлежит частой смене, но всегда предполагает наличие еще одного себя, некой дополнительной сущности, контролирующей деятельность маски. Сущности, ощущаемой как внутренняя сущность более высокого порядка. Или как присутствие портрета Дориана Грея в потайной комнате души, если хотите. Или как нравственный императив.
Сравнение портрета Дориана Грея с суперэго не кажется мне релевантным именно ввиду игры масок или перемены мест слагаемых в этом произведении. Эго – это обычно нечто соприродное не только данному индивиду, но и всему человеческому виду, тогда как суперэго есть нечто выпестованное. А у Уайльда и, смею предположить, у Генделева портрет и оригинал суть взаимозаменяемые маски. Портрет Дориана Грея не есть естественное состояние героя одноименного произведения, о чем мы узнаем из первых строк уайльдовского романа. Это – всего лишь идеальная маска, созданная третьим лицом – художником.
Вопрос масок интересовал Мишу бесконечно. Состояние третьего Генделева, наблюдающего за вторым Генделевым, являющимся маской Одиссея по отношению к истинному Генделеву, очень четко представляет одиннадцатая строфа «Дома в Яффо» (стихотворение написано задолго до наших с Мишей разговоров о дендизме):
Снаружи
Припавший к оконной раме
Загляни он в дом <…>
Себя очевидец не обнаружил
И по словам его
Из сада
(если смотреть снаружи)
в доме
не было никого
или в «Арионе», стихотворении из того же цикла:
Даже
последнюю строку
мою
припишут двойнику
а – я
лицо свое второе
лицо соленое пловца
в стекло зеленое зарою
до тыльной
стороны лица
Надо сказать, что закамуфлированная тема маски или масок, от имени которых поэт не только пишет, но и действует, – сквозная тема генделевского творчества. И хотя Генделев-поэт гораздо шире этой темы, проблема лилий в букетах, бабочек на бумажном листе и под подбородком, а также стилистического различия между поэтическим «я» поэта в зависимости от тщательно подобранного к маске берета или котелка будет продолжать занимать и читателя, и генделеведа, которые генделеведы в скором времени непременно появятся.
К их сведению небольшой эпизод из жизни Генделева: после того как с Мишей случился парез лицевого нерва, он некоторое время жил у нас. Как-то я застала его перед зеркалом в позе, предполагавшей продолжительное занятие самосозерцанием. Посчитав, что подобная процедура вредна травмированной психике окривевшего поэта, я напустилась на него с требованием оставить зеркало в покое.
– Отзынь! – возмутился Миша. – Должен же я понять, какие стихи могу писать от имени этой рожи.
Петр Криксунов
Пунктир о Генделеве[8]
Памяти Майи Каганской
Некоторые соображения о стихах Михаила Генделева я решил записать «пунктиром»: в виде набора цитат, объединенных логическими связками – как можно более краткими и динамичными. В теперь уже далеком 2000 году вышла в Израиле на иврите 80-страничная книжка моих переводов из Генделева – «Хаг» («Праздник»). Ее появлению предшествовали годы работы с автором. Мы обсуждали по многу раз каждое стихотворение, его контекст, возможные варианты перевода. Некоторые итоги этих обсуждений, переводческой работы и моих последующих размышлений о текстах и поэтике Генделева и предлагаются ныне вниманию читателя.
I
Пух у Генделева: «Романс ностальгия»
Немедленно возникает вопрос: ностальгия – по чему? Или – по кому? Ответ мы получаем далеко не сразу.
Приведу только часть стихотворения. Здесь настойчиво повторяется слово пух:
И вода отпускает на сушу
наигравшись тела
пусти!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.