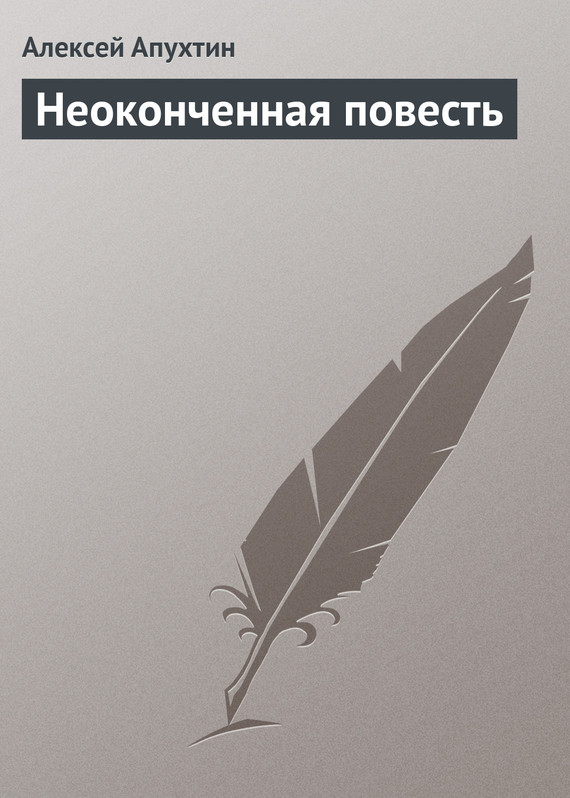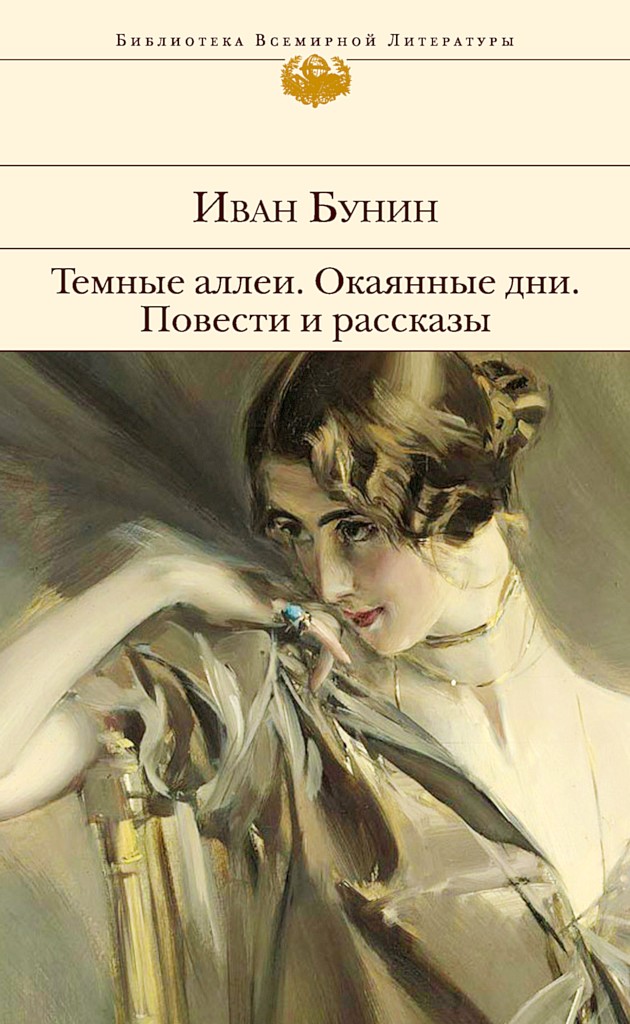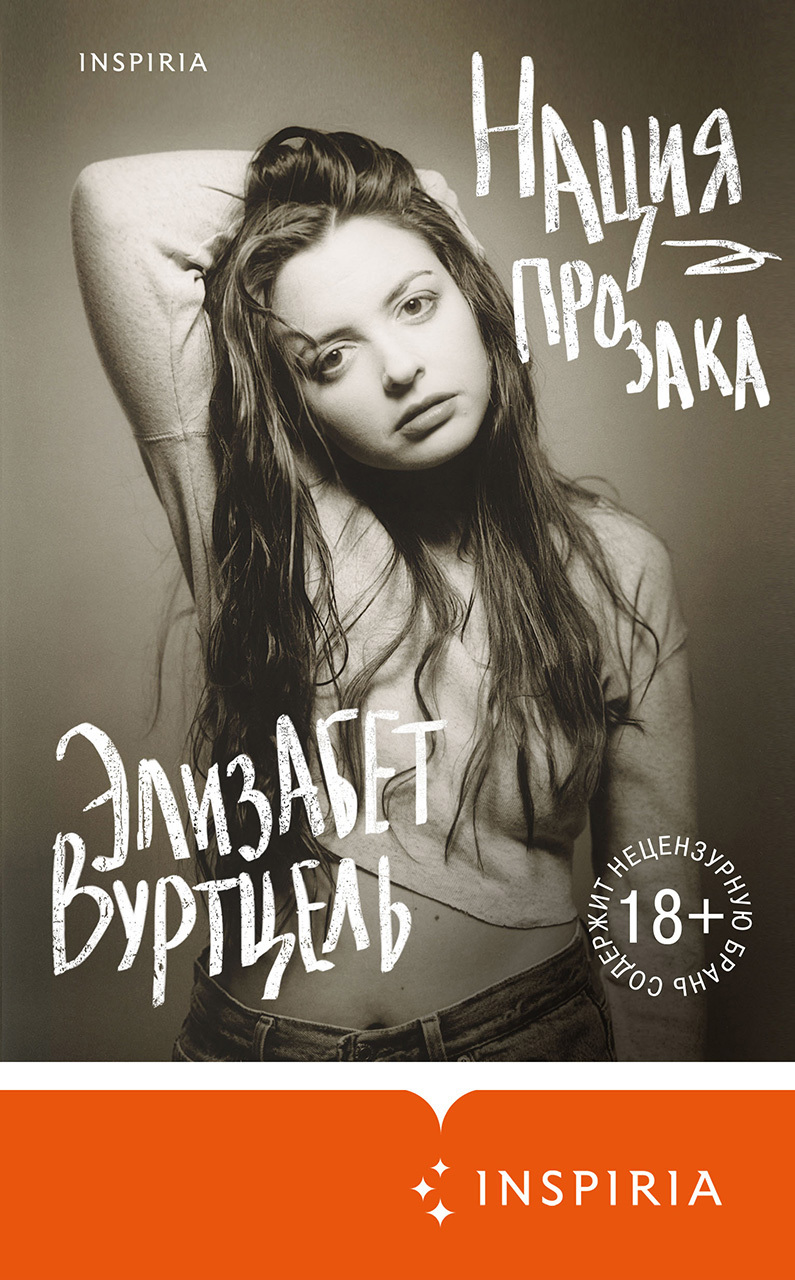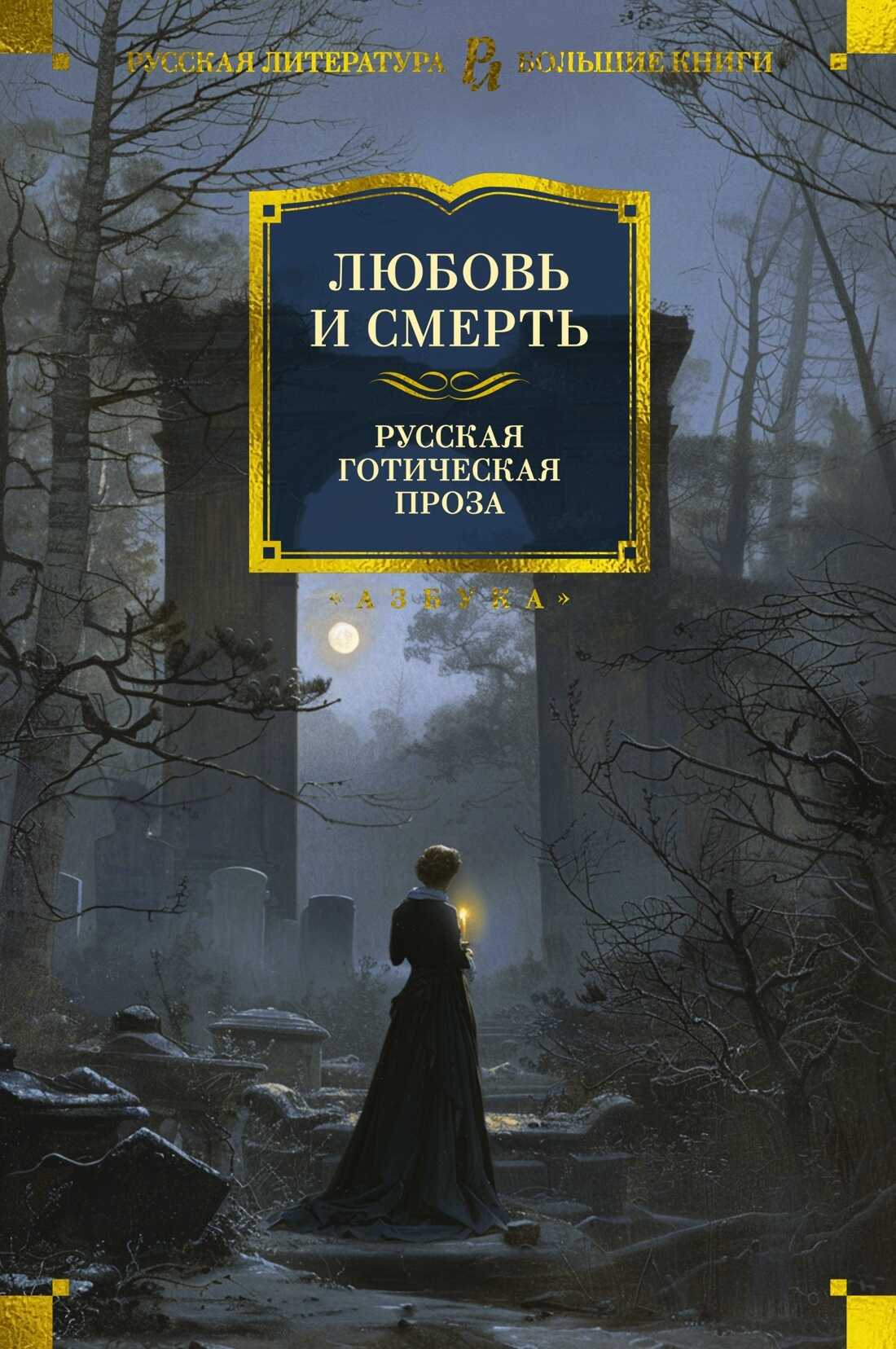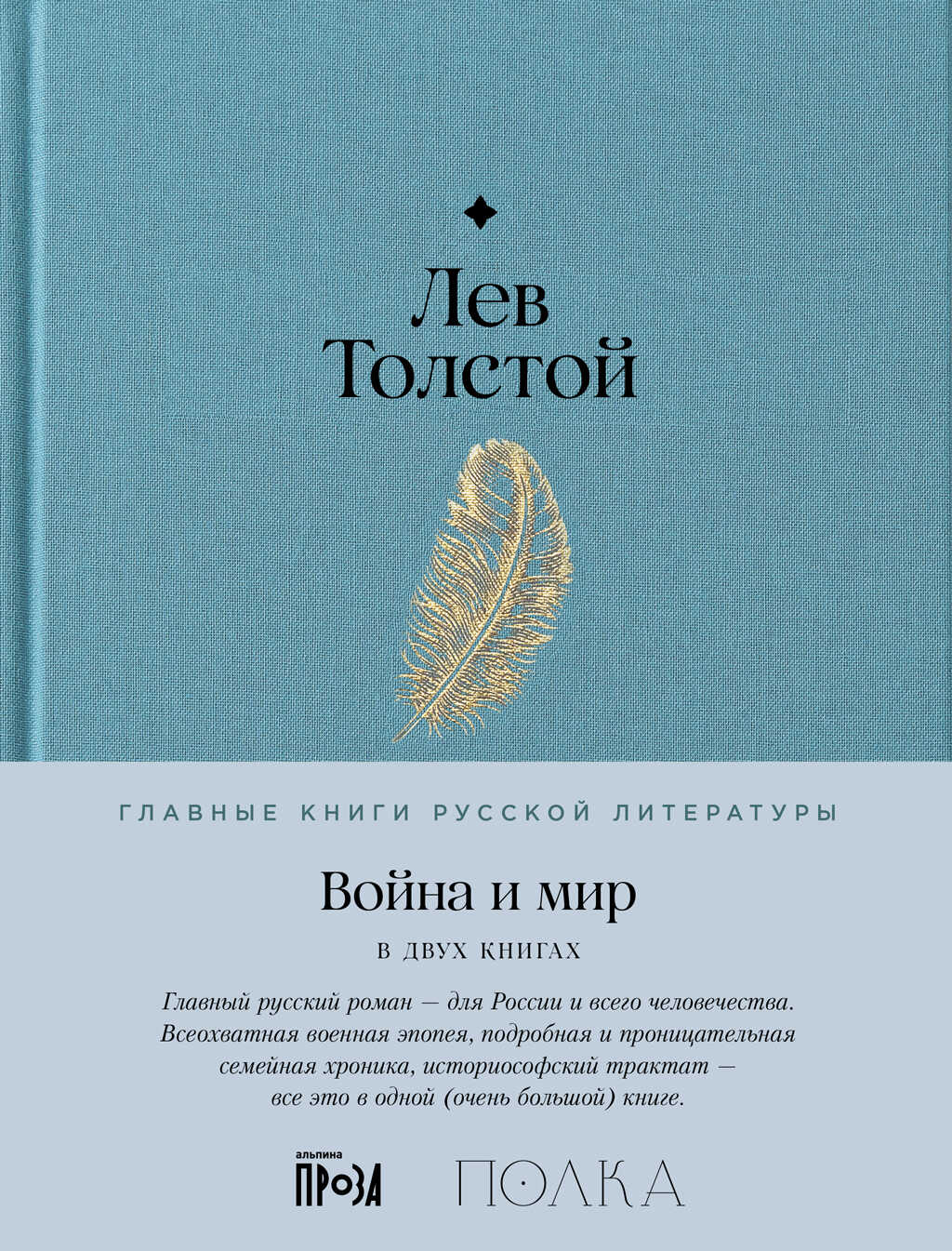Том 3. Дама с собачкой - Антон Павлович Чехов Страница 4

- Категория: Проза / Разное
- Автор: Антон Павлович Чехов
- Страниц: 147
- Добавлено: 2025-04-16 09:04:22
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Том 3. Дама с собачкой - Антон Павлович Чехов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Том 3. Дама с собачкой - Антон Павлович Чехов» бесплатно полную версию:В конце 1880-х годов Чехов начал писать роман «Рассказы из жизни моих друзей». От него не осталось ничего, кроме заглавия. Романа нет, но он все-таки есть: авторский замысел можно угадать, реконструировать, восстановить, сложить роман, как мозаику, из многочисленных рассказов. Одной из главных сюжетных линий этого воображаемого романа окажется история любви. Чехов не предлагает читателям готовых рецептов счастья, не выводит в финале произведения мораль. Рассказывая о любовных отношениях своих героев, Чехов предпочитает безудержной откровенности недоговоренность и ощущение тайны.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Том 3. Дама с собачкой - Антон Павлович Чехов читать онлайн бесплатно
Психологический парадокс новеллы – в запутанности взаимных отношений. Жена любит приятеля и до отвращения ненавидит мужа. Рассказчик идет ей навстречу, однако считает произошедшее легким приключением, между тем как дама предлагает «большую, серьезную любовь со слезами и клятвами». Муж безумно, безответно влюблен в жену и исповедуется человеку, которого считает своим настоящим другом. В этом «треугольнике» на самом деле девять «персонажей»: у каждого героя есть свои образы-конструкции антагонистов, не совпадающие с реальностью. Но в конечном итоге обманутый муж и его неверный друг не противопоставляются, а сходятся в общем взгляде на мир.
«Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя, потому что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон… Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни… Есть болезнь – боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни».
Воспринимающий эту исповедь со скукой и тайным высокомерием («А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека») рассказчик после настоящего обмана заражается тем же настроением. «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.
– Зачем я это сделал? – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. – Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой. При чем тут фуражка?»
Безнадежная любовь и ненужная победа уравниваются во внешней бессмысленности и внутренней непостижимости. Провинциальный Гамлет и Дон Жуан на русский манер оказываются товарищами по страху.
Бородатый анекдот («Пришел к чужой жене любовник – и вдруг внезапно появился муж!») трансформирован у Чехова в психологическую новеллу-парадокс, в подкладке которой – философия «мировой скорби» (С. Булгаков когда-то сравнил Чехова с Байроном – как раз на этой почве).
В чеховском романе испытывается не социальная продуктивность героя, а его человеческая состоятельность. Однако сюжет мужского поражения не превращается, как у Тургенева, в историю женской моральной победы.
Она: версии Душечки
«Побойся Бога, ни в одном из твоих рассказов нет женщины-человека, а все какие-то прыгающие бланманже, говорящие языком избалованных водевильных инженю», – упрекает Чехов брата (начало августа 1887 г.; П 2, 104).
«…Во всей Вашей книге упрямо отсутствует женщина, и это я только недавно разнюхал», – пишет он В. Короленко, прочитав сборник его рассказов (9 января 1888 г.; П 2, 171).
«Меня бесит то, что в ней нет романа, – иронически исповедуется он приятелю-писателю, закончив «Степь». – Без женщины повесть, что без паров машина. Впрочем, женщины у меня есть, но не жены и не любовницы. А я не могу без женщин!!!..» (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 22 января 1888 г.; П 2 182).
«Мужчины без женщин» (заглавие сборника рассказов Э. Хемингуэя) действительно редкие гости в чеховской прозе. Более того, часто повествовательная точка зрения меняется, главной задачей становится как раз портрет женской души. Нагло и цинично переигрывающая простаков-мужчин хищница-еврейка («Тина»); тоскующая деревенская красавица («Ведьма»); обаятельная лгунья и истеричка («Ариадна»); поклонница самозванного гения, просмотревшая глубокую незаметную любовь собственного мужа («Попрыгунья»); угнетенная невинность, мгновенно превращающаяся в торжествующую пошлячку («Анна на шее»; сюжет внезапного превращения жертвы в мучителя, столь любимый Достоевским, разрешается здесь чисто чеховскими средствами – в бытовой фабуле, с точными деталями и тонкой иронией).
Мужская точка зрения меняется на женскую, но способ изображения и финальный сюжетный итог оказываются, как правило, сходными.
«Они полюбили друг друга, поженились и были несчастливы» – так передавал современник общий смысл чеховского сюжета. На что писатель будто бы отвечал, улыбаясь: «Но, милый мой, ведь так и бывает. Только так и бывает».
Пафос аналитического, психологического, реалистического романа заключается обычно в том, чтобы обосновать, объяснить все изображаемое. В том числе – и любовь. Но, вспоминая предшествующую Чехову традицию, мы обнаруживаем любопытный парадокс. Подробно воссоздавая биографию и предысторию «его» и «ее», живописуя причины и следствия, препятствия и восторги, писатель неизбежно наталкивается на одно и то же: трудно, практически невозможно объяснить сам момент перехода от нелюбви к любви.
«Пора пришла, она влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнем оживлено» – так изображен решающий перелом в «Евгении Онегине». Дальше же начинаются подробности уже существующего чувства.
Вряд ли более удачлив в этих поворотных точках и Лев Толстой с его изощреннейшим психологическим методом, «диалектикой души». И у него в конце концов появляется некое вдруг, отменяющее дальнейшие объяснения.
Создать героя оказывается легче, чем понять его.
«Орудием романиста, – замечает французский романист и мыслитель ХХ в., – как бы служит анализ персонажей, следовательно, обладание ими. Но самый развернутый анализ наталкивается на непокорство иррационального, как мы это видим у Пруста и Достоевского. Аналитический роман приводит не столько к тому, что человек познается точнее, сколько к тому, что его тайна углубляется. ‹…› Современный роман – битва романиста с той частицей персонажа, которую он не перестает преследовать, но тщетно, ибо эта частица – тайна человека. Анна ускользает от Толстого, хотя он дирижирует, как симфонией, ее гибельной судьбой. ‹…› За восемь или девять столетий, даже если взять одно из чувств – любовь, романисту, претендующему на то, что „он познает людей, чтобы на них воздействовать“, только и удалось открыть человеческое существо как загадку. Но в то же время – вступить в беспрецедентную борьбу с этой загадкой»[7].
Чехов не вступает в борьбу. Напротив, он подчеркивает, акцентирует тайну человеческого выбора, связанную с каким-то неразложимым ядром личности. Именно потому решающее объяснение в его рассказах обычно передоверено герою и содержит не событийный итог, а лирический безответный вопрос.
«Как зарождается любовь… все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви было сказано только одна неоспоримая правда, а именно, что „тайна сия велика есть“, все же остальное, что говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и остались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.