Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков Страница 7
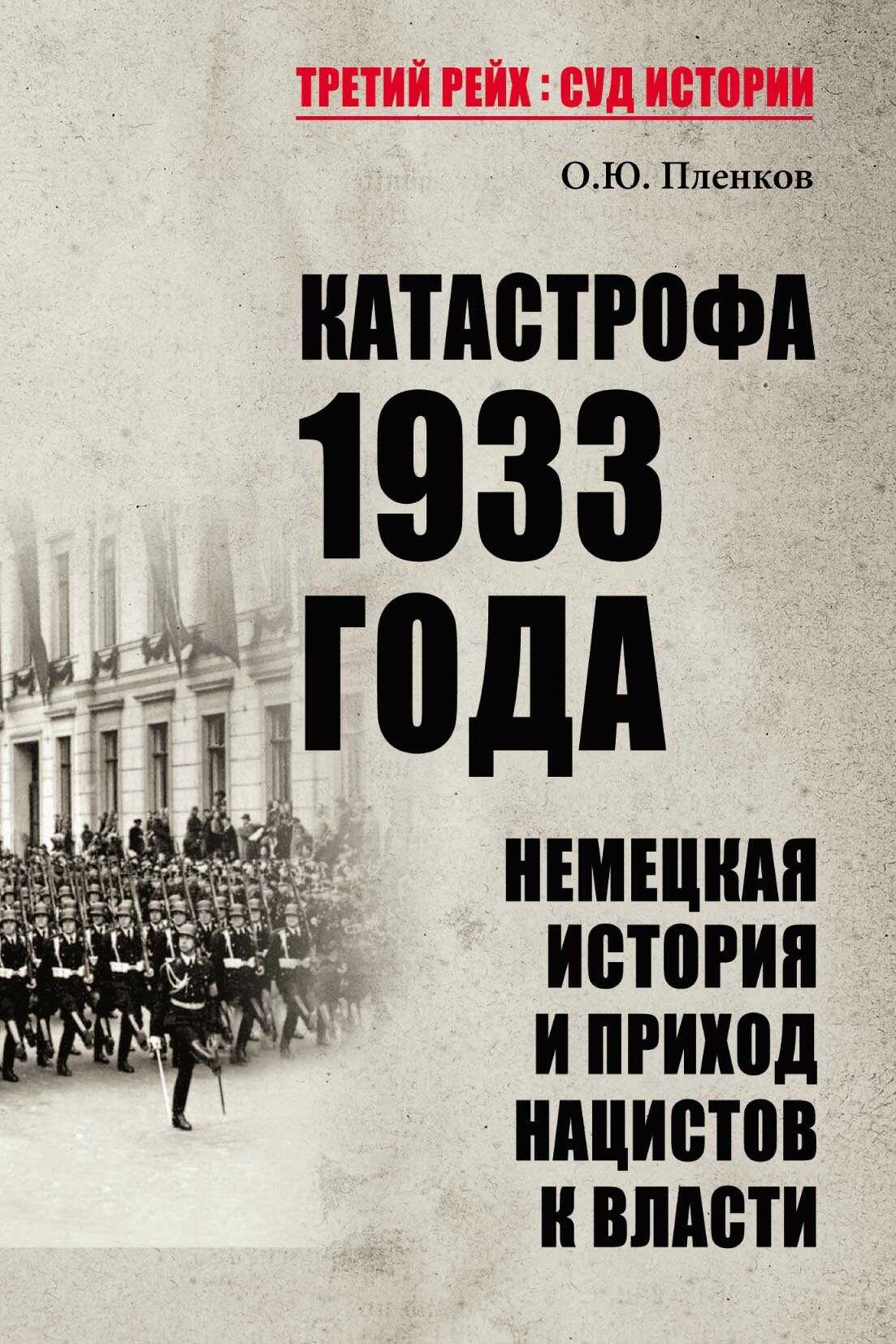
- Категория: Проза / Историческая проза
- Автор: Олег Юрьевич Пленков
- Страниц: 182
- Добавлено: 2025-06-27 18:05:13
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков» бесплатно полную версию:История нацизма до сих пор остается до конца не изученной и полной мифов, которые требуют своего опровержения. В фундаментальной книге историка О.Ю. Пленкова даются утвердительные ответы на многие вопросы истории нацизма, в том числе такие: следует ли считать нацизм немецким или антинемецким явлением, был ли он реакционным или модернистским, революционным или контрреволюционным, подавлял ли он инстинкты или развязывал их, был ли нацизм похож на коммунизм или был проявлением капитализма, были у него заказчики или нет, была ли его массовой базой мелкая буржуазия или также в значительной части рабочий класс, находился он в русле всемирно-исторических тенденций или же был восстанием против хода истории?
Книга адресована всем, кто интересуется историей XX века.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков читать онлайн бесплатно
Американский социолог Люсьен Пай таким образом определил политическую культуру: «Это совокупность ориентаций, убеждений и мнений, которые вносят последовательность и наделяют смыслом политический процесс и которые поставляют те основополагающие представления и нормы, которыми управляется поведение в политической системе. Политическая культура включает в себя идеалы и действительные нормы данной государственности. Она является, таким образом, обобщенным выражением психологического и субъективного измерения политики»[30].
Понятие «политическая культура» в последние годы за рубежом стало расхожим, поскольку в силу своей многозначности оно очень удобно при анализе. Немецкий социолог Михаэль Каазе в 1983 г. сравнил попытку точного определения понятия «политическая культура» с попыткой прибить пудинг к стене гвоздем[31]. Это так, но, с другой стороны, видно, что это понятие указывает на то, что не все возможно из того, что в принципе может произойти в политическом развитии отдельной страны, а это уже немало.
Неизбежно встает вопрос: а возможна ли типология политических режимов на основании различных параметров политической культуры? Как известно, такого рода построениями занимались почти все политологи начиная с античных времен, а наиболее известны типологии Маркса, Вебера, Спенсера, Шпенглера, Тойнби; но мы не будем отстаивать справедливость какой-либо из этих схем или составлять новые; для наших целей вполне достаточно простого деления: политические культуры, соответствующие западному гражданскому обществу, и культуры, ему не соответствующие. Чрезвычайно важно помнить, что ценностные суждения неуместны в этом разделении, так как нельзя считать политическую культуру менее «ценной» потому, что она мало соответствует гражданскому обществу, и наоборот; ибо, с одной стороны, политическая культура формируется помимо человеческой воли, с другой стороны, будущее отдельной политической культуры не может быть предопределено соответствием ее настоящим ценностным суждениям людей. В самом деле, архаическая политическая культура Японии сделалась основанием для построения одного из самых преуспевающих обществ современности, в котором существуют одни из самых высоких в мире стандартов качества и уровня жизни. Иными словами, те свойства политической культуры, которые кажутся архаическими, отжившими, даже реакционными. Со временем могут обернуться иными своими качествами, прогнозирование которых, по всей видимости, невозможно; а могут и не обернуться.
Для нас важно отметить, что как бы радикально ни были настроены революционеры, они не в состоянии выйти, вырваться за пределы политической культуры, вовсе ее «преодолеть». Даже отрицая политическую культуру, революционер неизбежно исходит из нее самой, стоит на ее почве, поскольку стоять вообще на чем-либо нужно, и какими бы экзотическими ни были средства и цели революционеров и преобразователей, они неизбежно трансформируются в привычные и удобные формы, свойственные данной политической культуре. Любая революционная идеология – ничто перед могучими пластами прошлого опыта, традиции, национального характера, что превосходно подметил Н. А. Бердяев: «Революционная идеология не может быть названа глубокой, она не знает древних истоков, она обречена быть поверхностной»[32]. Крупнейший теоретик политического консерватизма Эдмунд Берк еще определенней указывал, что род всегда мудрей, чем один человек, даже если этот человек – самый великий революционер.
Не следует думать, однако, что революции вызываются исключительно эгоистическими, корыстными мотивами, чуждыми реальности определенной политической культуры; корни любой революции, по словам религиозного философа Семена Людвиговича Франка, в «духовной неудовлетворенности, в искании цельной и осмысленной жизни»[33]. Эти искания всегда происходят на конкретной почве конкретной политической культуры, оторваться от которой никак нельзя. Революции могут многое, они только не могут, как бы ни старались, совсем «преодолеть» прошлое. Поэтому комплекс проблем, связанных с политической культурой, как правило, оказывается в центре внимания общественности в смутные времена перемен; это происходит, полагал Мартин Грейффенхаген, от потребности в идентичности: «Население, которому неведомы координаты своего политического существования, является обществом немых»[34]. Более того, один из самых значительных политических мыслителей ХХ века Жорж Сорель полагал, что всякое консервативное движение – это контрреволюция, то есть революция с обратным знаком; для Сореля сохранение определенной политической культуры – это тоже дело революции[35]. В самом деле, революции всегда и сохраняют, и развивают наиболее яркие черты национальной политической культуры, даже те, которые формально противоречат целям революции. Понятие «революционное сохранение» вошло и в фашистскую идеологию. По Сорелю, настоящая революция может исходить только из консервативных побуждений, так как только у консерватора есть силы действовать решительно, революционно, ибо только он имеет твердую почву под ногами[36]. Кроме того, революция всегда только усиливала государственную власть и никогда ее не ослабляла. Таким образом, у Жоржа Сореля возник термин «консервативная революция», этот термин как нельзя лучше подходит к политической ориентации правых сил в период Веймарской республики.
Легко предположить, что подобные теоретизирования в отношении влияния политической культуры на историю могут вызвать законное раздражение и неприятие, ибо огромное количество историков отрицают теорию, как таковую. Одни признают возможность существования моделей и закономерностей в истории, но отрицают их доступность систематическому исследованию. Не так просто найти убедительное объяснение отдельному событию в истории, а попытки связать их в цепь или систему общих категорий означает, что исследователь удаляется слишком далеко от достоверных фактов. Как писал по этому поводу Питер Матиас, «в сокровищнице прошлого более чем достаточно отдельных примеров для поддержания любого общего предположения. Проще всего стукнуть историю по голове тупым орудием гипотезы и оставить на ней отпечаток»[37]. В самом деле, возможность того, что теория «вытеснит» факты, без сомнения, следует воспринимать всерьёз. В то же время объем данных по многим научным проблемам так велик, что отбор становится неизбежным и принципы этого отбора могут исказить результат исследования. Применительно к американской истории Эйлин Крадиатор пояснила эту мысль так: «Если один историк спросит, „содержатся ли в источниках сведения об активной борьбе рабочего класса и рабов за свои права“, источники ответят „конечно“. А если другой спросит, подтверждают ли источники согласие широких кругов американской общественности с существовавшим порядком на протяжении двух последних столетий, источники также ответят: „конечно, несомненно“». В доказательство почти любой теории модно привести впечатляющий набор отдельных примеров.
Решение этой проблемы не в отказе от теории (все равно совершенно свободно интерпретировать невозможно), а в осознанном и критическом отношении к теории. Отбор данных должен быть репрезентативным, исключенные факты не должны иметь существенный характер. К тому же историк должен в определенной степени дистанцироваться от собственной теории и быть готовым изменить курс, если не может её подтвердить[38]. Кроме того, всегда есть возможность сравнить достоинства различных теорий, чтобы выяснить, сможет ли какая-нибудь из них
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.