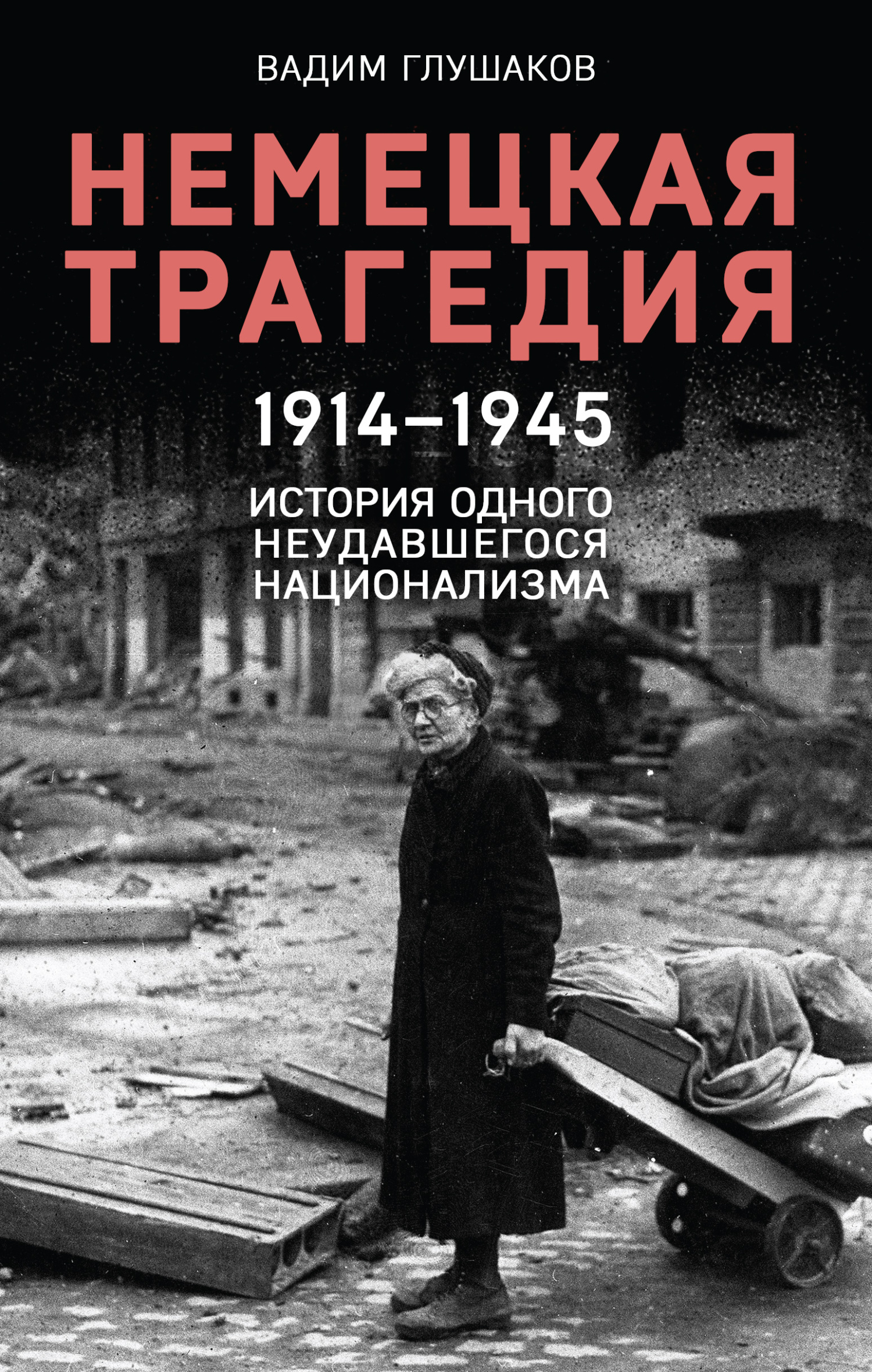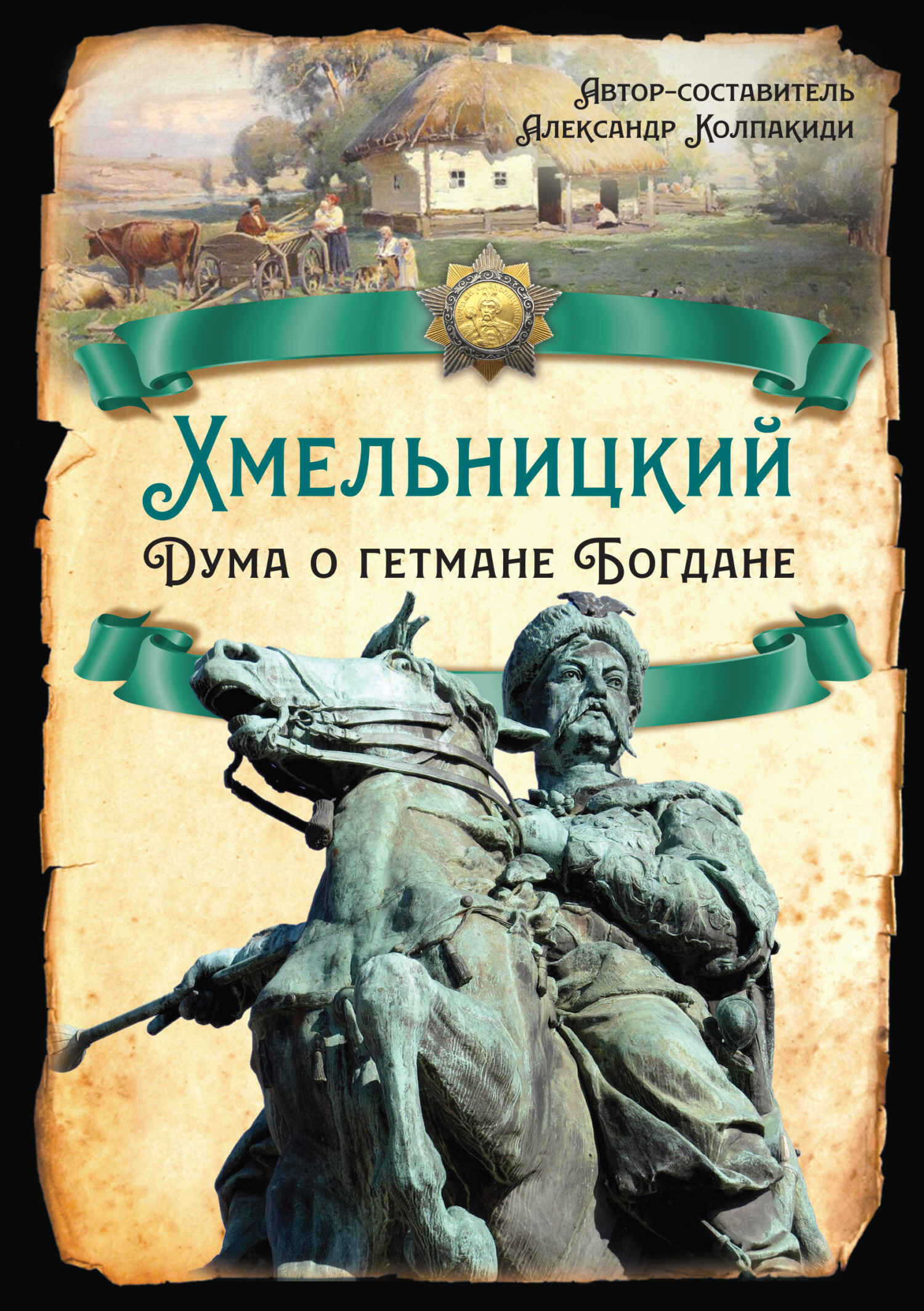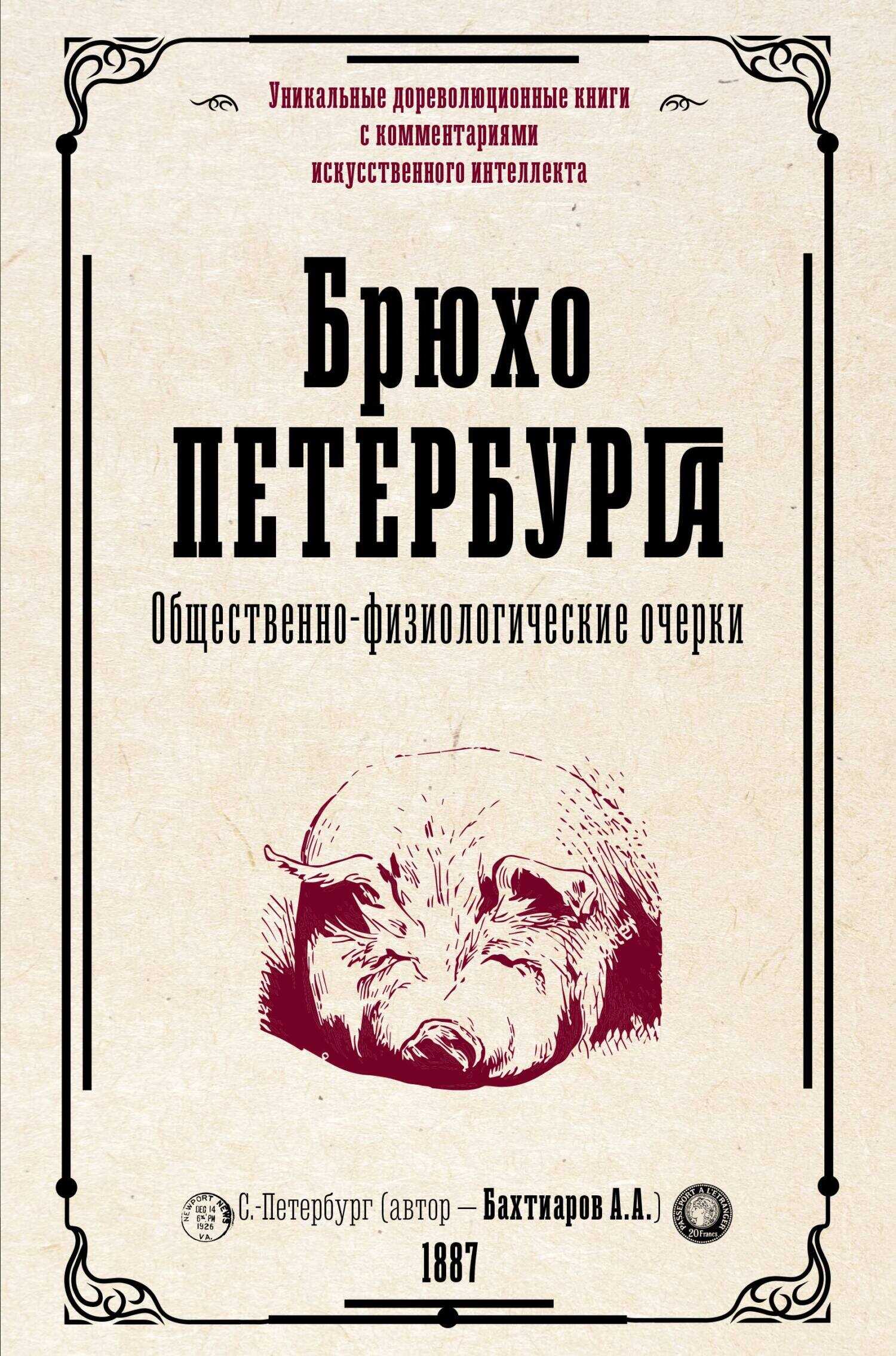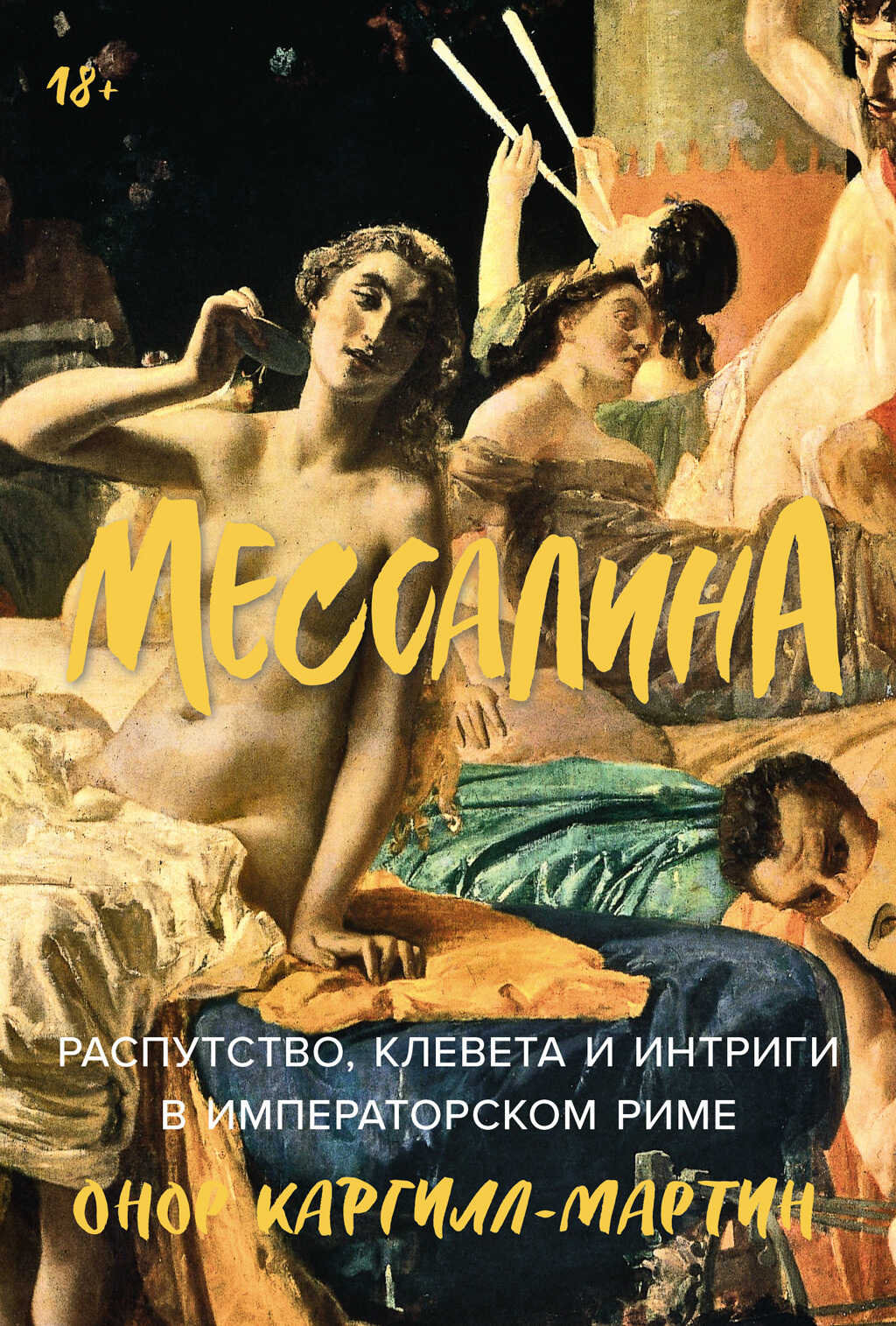Мифология советского космоса - Вячеслав Герович Страница 28

- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Вячеслав Герович
- Страниц: 89
- Добавлено: 2025-01-19 23:10:57
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Мифология советского космоса - Вячеслав Герович краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Мифология советского космоса - Вячеслав Герович» бесплатно полную версию:Советская космическая мифология возникла под давлением противоречивых сил – требований секретности, с одной стороны, и запросов пропаганды, с другой. Из культурной памяти стирались любые ошибки и неудачи, связанные с космосом, и история свелась к набору клише: безупречные космонавты выполняли безошибочные полеты с помощью безотказной техники. Но имидж героя-пилота плохо сочетался с образом пассажира полностью автоматизированного корабля. И инженеры, создававшие космическую технику в полной безвестности, и космонавты, вынужденные заниматься пропагандистской работой вместо подготовки к новым полетам, пытались противостоять мифам официальной истории с помощью передававшихся из уст в уста рассказов, выросших в своеобразные контрмифы. Основанная на обширных архивных исследованиях и интервью с космонавтами и инженерами, эта книга прослеживает механизмы формирования советских космических мифов и контрмифов и их связь с меняющимся образом космоса в советской и постсоветской культуре. Вячеслав Герович – историк науки и техники, автор книг и статей по истории советской кибернетики, космонавтики, математики и вычислительной техники, руководитель исследовательского проекта по устной истории советской математики. Преподаватель Массачусетского технологического института.
Мифология советского космоса - Вячеслав Герович читать онлайн бесплатно
Тем не менее в космонавтах главным образом воспитывали два других качества – самоконтроль и способность исполнять приказы. Женщинам-кандидаткам было особенно сложно справляться с множеством регламентаций. Пономарева позже вспоминала: «Когда мы прибыли в Центр, нас призвали в ряды Советской Армии рядовыми. Мы пришли в военную организацию и были в ней элементом чужеродным, с разными характерами, с разными понятиями, и нашим командирам было очень непросто с нами управиться, потому что мы плохо понимали требования Устава, что приказы надо выполнять, и вообще воинская дисциплина для нас была чуждым и сложным явлением»335. Идентичность кандидаток быстро подогнали под мужской образец. Им вскоре предложили поступить на военную службу в качестве офицеров ВВС. Они взвесили варианты, посоветовались с мужчинами-космонавтами и решили принять предложение: «надо быть как все»336.
Потребность космонавтов быть одновременно послушными и изобретательными, следовать правилам и нарушать их можно назвать парадоксом «дисциплинированной инициативы». Историк Соня Шмид в своем исследовании операторов советских атомных электростанций отметила, что отношение конструкторов атомных реакторов к их операторам заключало в себе такое же противоречие: операторов рассматривали одновременно и как слабое звено, и как условие надежной работы реактора337. И конструкторы космических аппаратов, и инженеры-атомщики считали человека-оператора частью технической системы, которая всегда должна функционировать в соответствии с правилами, и в то же время они ожидали от оператора проявления таких человеческих качеств, как инициатива и находчивость.
Руководители космической программы постоянно колебались между верой в силу техники и доверием к мастерству и изобретательности человека. Вспоминая известную пару старых сталинских лозунгов, Устинов, секретарь Центрального комитета партии, курировавший военно-промышленный комплекс, говорил высшим руководителям космической отрасли в феврале 1971 года: «Нельзя шарахаться в крайности: все решает человек или все решает автомат. …Человека [надо] использовать не для соревнования с аппаратом по нажиманию кнопок, а для исследований, открытий, там, где нужны его эвристические способности, резервы мозга». Он признавал, что трудно извлечь пользу из человеческой изобретательности на полностью автоматизированных космических кораблях: «Эти резервы мы в космосе пока не используем»338.
Можно предположить, что этот парадокс отражал фундаментальную противоречивость советского подхода к роли человека в больших технических системах и, возможно, более широко – к социальному контролю и государственному управлению. Согласно «Моральному кодексу строителя коммунизма», будущий советский гражданин должен быть активным членом общества и проявлять «непримиримость» к несправедливости или нечестности. В то же время образцовый гражданин должен иметь «высокое сознание общественного долга»339. Как заметила историк Полли Джонс, в хрущевскую эпоху парадоксальным образом сочетались две противоположные тенденции: новый акцент на развитие индивидуальности, персональное благополучие и личные свободы балансировался политикой массовой мобилизации для участия в публичных мероприятиях и коллективной деятельности340. Хотя за сталинизмом последовала политическая оттепель, советский идеологический дискурс сохранил свою характерную особенность – фундаментальную двусмысленность. Новый человек должен был быть одновременно и активным вершителем перемен, и дисциплинированным членом коллектива, покорно исполняющим приказы. Необычайные подвиги, совершавшиеся героями, плохо сочетались с идеалом послушания, демонстрируемым лояльными членами коллектива. Герой одновременно и воплощал собой лучшие советские качества, и подрывал коллективистский идеал.
Новый советский человек встречается с американским героем
Коммунистический идеал 1960-х годов представлял собой «гармоническое сочетание» технологической утопии, строительства материально-технической базы коммунизма и гуманистической утопии, то есть создание духовно богатого нового советского человека. Напряженные отношения между двумя частями этого проекта – технической и человеческой – можно проследить на протяжении всей советской истории. Ранние идеи большевиков о «машинизации человека» парадоксально сочетают в себе традиционное восприятие техники как орудия эксплуатации с футуристическими образами творческого слияния рабочих и машин341. Схожее поле идеологического напряжения поддерживалось сталинскими лозунгами 1930-х годов: «Техника решает все!» и «Кадры решают все!». Герой-летчик, олицетворявший сталинского нового советского человека, тоже имел расколотое самосознание. Он был и отдельной личностью, и винтиком общего механизма, являлся и хозяином техники, и частью машины.
В космическую эпоху старые противоречия вышли на поверхность в спорах об автоматизации управления космическими аппаратами. Разделение функций между человеком и машиной определяло степень самостоятельности космонавтов в управлении своими полетами и, более широко, одновременно отражало и формировало роль отряда космонавтов в космической программе. Личность космонавта тоже конструировалась как часть устройства системы управления аппаратом.
При попытках использовать космонавта как образец нового советского человека выяснилось, что выбранная модель далека от совершенства. Космонавты сопротивлялись своему превращению в пропагандистские символы точно так же, как они сопротивлялись жесткому встраиванию в техническую систему. Возможно, они нравились простым советским людям именно потому, что были не идеальными воплощениями идеологических конструкций, а живыми людьми с собственными мыслями и сомнениями.
В то время как в СССР конструировали космонавта как прототип нового советского человека, астронавты в США тоже превращались в публичные символы. По наблюдению историка Роджера Лониуса, «и сотрудники НАСА, и сами астронавты тщательно формировали и контролировали свой публичный имидж не менее успешно, чем звезды кино и рок-музыки». Сочетая молодость, энергию, игривость и мощную маскулинность, образ астронавта воплощал американский идеал, образцового американского героя. Астронавты служили «суррогатами для общества, которое они представляли»342. Несмотря на идеологические различия, и американские, и советские пропагандистские журналы демонстрировали очень похожие образы космических путешественников как одновременно «необыкновенных героев и обычных людей». Все эти публикации опирались на «базовую идею, что полет человека в космос приведет к мощным переменам и в конечном счете принесет человечеству мир и прогресс»343.
Советские космические инженеры и космонавты зачастую считали американскую космическую программу образцом человекоориентированного подхода к проектированию космических аппаратов. Один из заместителей Королева, например, отмечал, что американцы «многое возлагали на человека там, где мы устанавливали тяжелые сундуки всяческой троированной автоматики»344. Однако советское представление о том, что американцы отдавали приоритет ручному управлению, во многом было основано на мифе. На деле, когда астронавты летели на Луну и обратно, они не управляли кораблем вручную. Как показал историк Дэвид Минделл, для эффективного управления «Аполлоном» требовалось тесное взаимодействие экипажа и бортового компьютера. Астронавт был «администратором системы, который не только непосредственно управлял собственными действиями, но и координировал другие аспекты системы управления». Работая в тесном контакте с диспетчерами на Земле, астронавты выполняли такие критически важные операции, как стыковка космического аппарата и посадка на Луну при помощи компьютера. Из-за включившегося в последние моменты посадки «Аполлона-11» аварийного сигнала компьютера Нил Армстронг выполнил посадку вручную, и НАСА «рассказало о посадке как о победе искусного человека-оператора над подверженной ошибкам автоматикой
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.