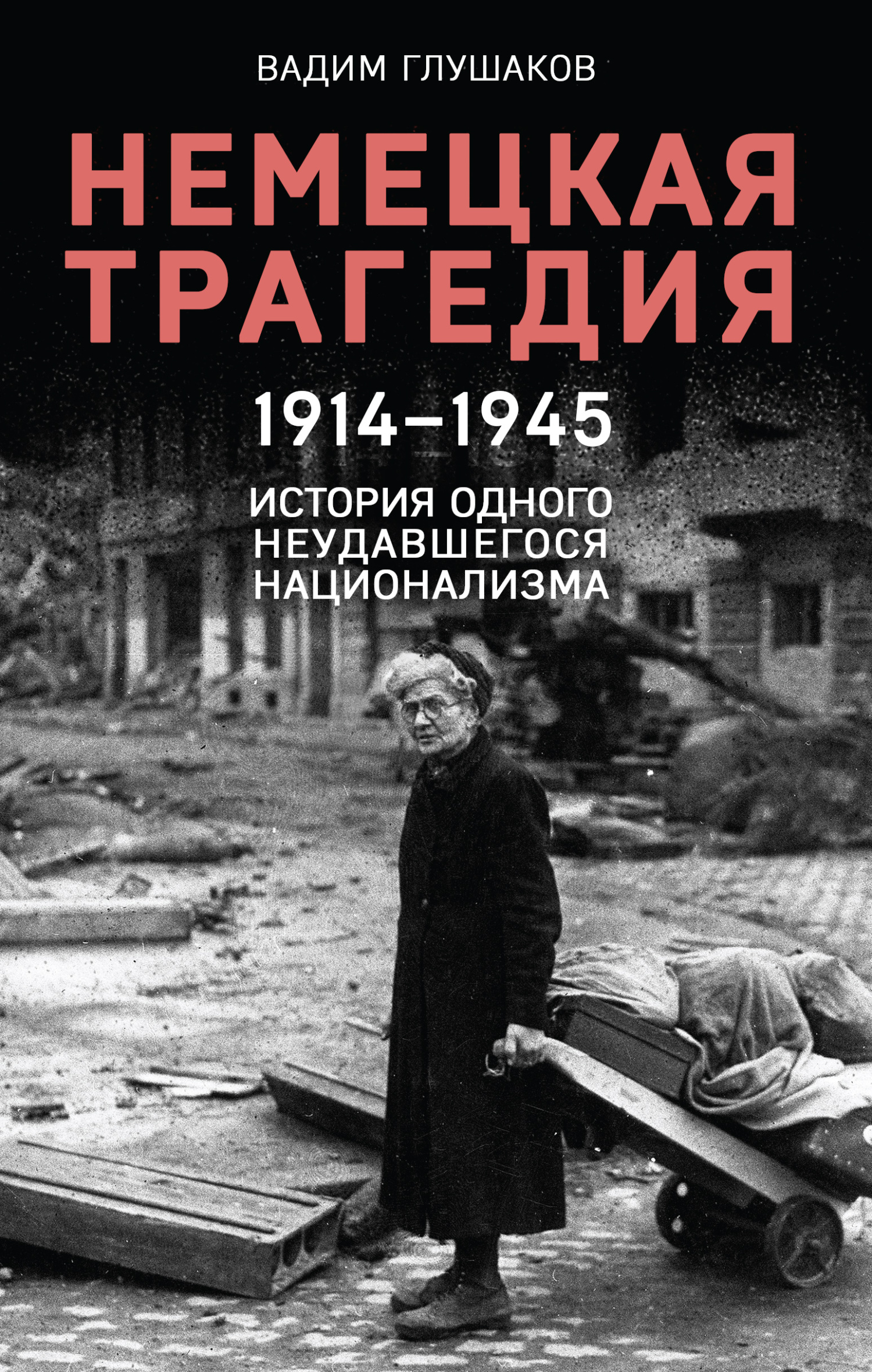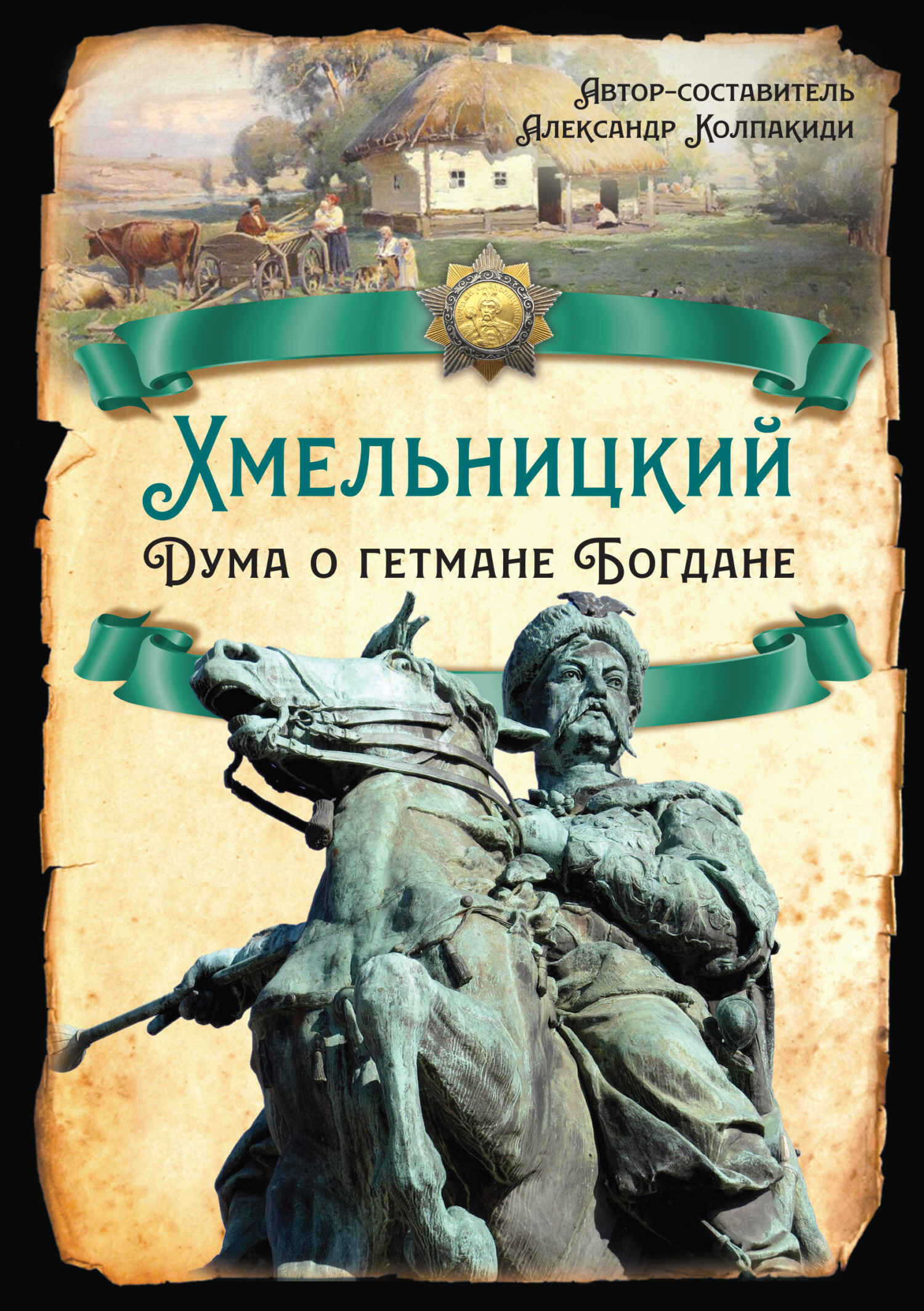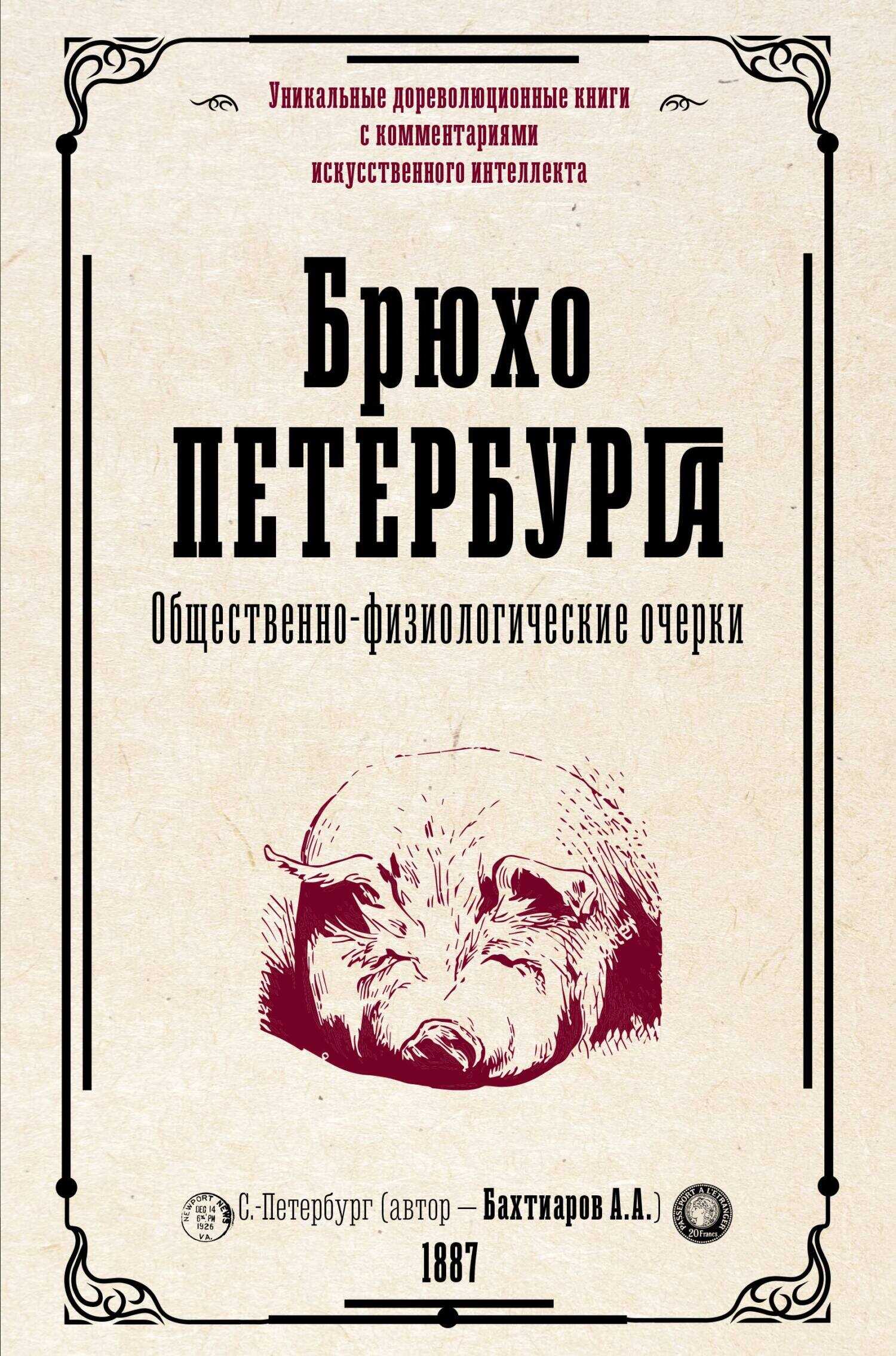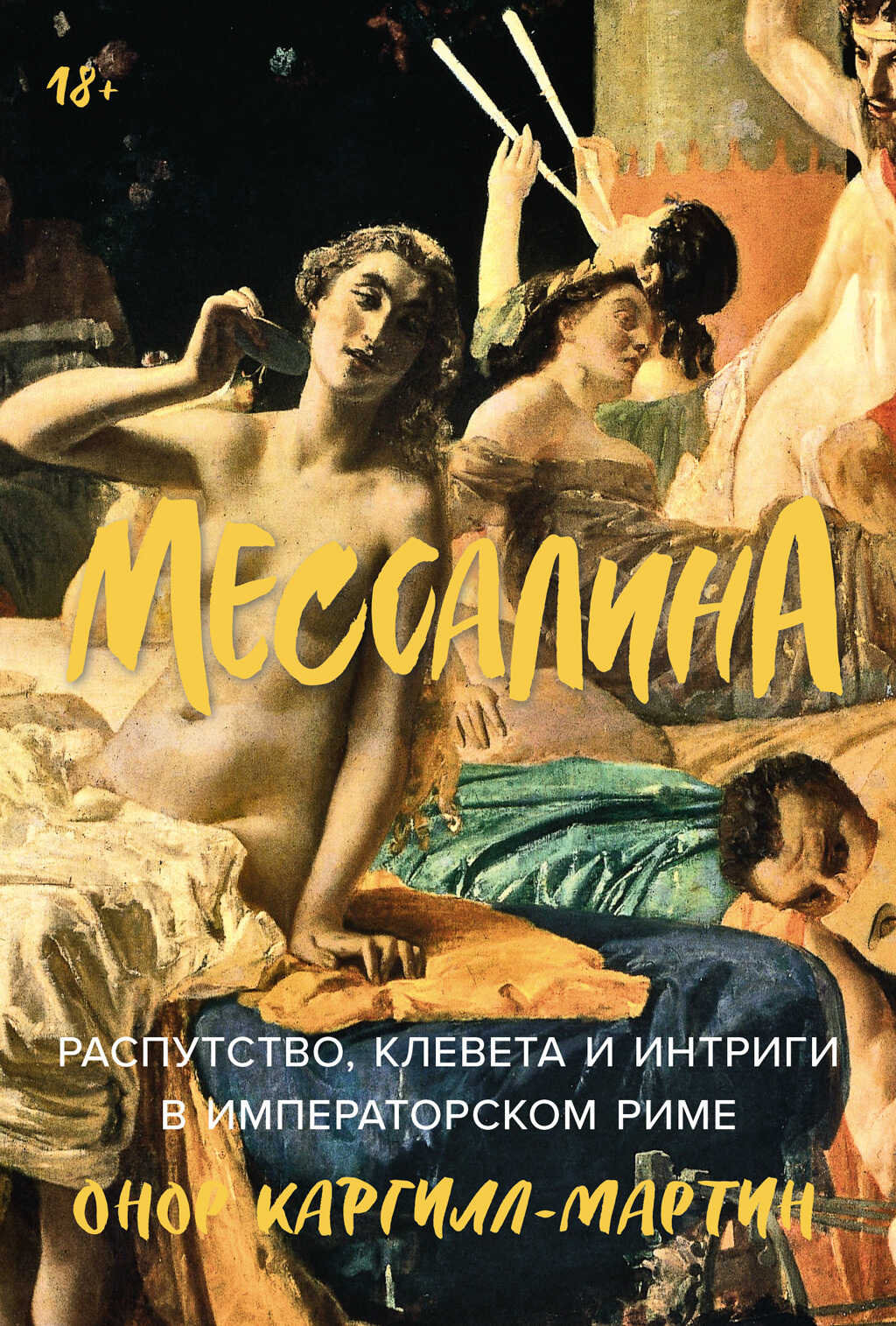Мифология советского космоса - Вячеслав Герович Страница 22
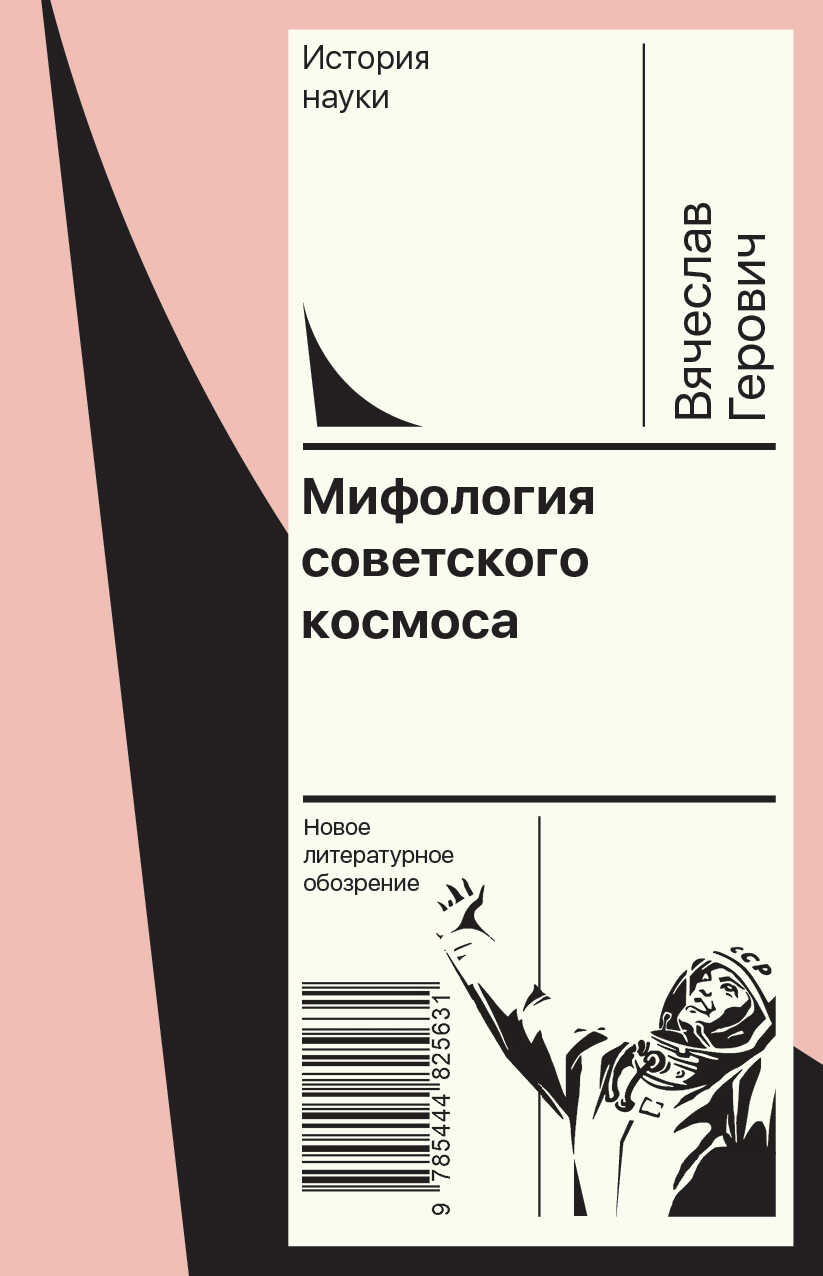
- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Вячеслав Герович
- Страниц: 89
- Добавлено: 2025-01-19 23:10:57
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Мифология советского космоса - Вячеслав Герович краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Мифология советского космоса - Вячеслав Герович» бесплатно полную версию:Советская космическая мифология возникла под давлением противоречивых сил – требований секретности, с одной стороны, и запросов пропаганды, с другой. Из культурной памяти стирались любые ошибки и неудачи, связанные с космосом, и история свелась к набору клише: безупречные космонавты выполняли безошибочные полеты с помощью безотказной техники. Но имидж героя-пилота плохо сочетался с образом пассажира полностью автоматизированного корабля. И инженеры, создававшие космическую технику в полной безвестности, и космонавты, вынужденные заниматься пропагандистской работой вместо подготовки к новым полетам, пытались противостоять мифам официальной истории с помощью передававшихся из уст в уста рассказов, выросших в своеобразные контрмифы. Основанная на обширных архивных исследованиях и интервью с космонавтами и инженерами, эта книга прослеживает механизмы формирования советских космических мифов и контрмифов и их связь с меняющимся образом космоса в советской и постсоветской культуре. Вячеслав Герович – историк науки и техники, автор книг и статей по истории советской кибернетики, космонавтики, математики и вычислительной техники, руководитель исследовательского проекта по устной истории советской математики. Преподаватель Массачусетского технологического института.
Мифология советского космоса - Вячеслав Герович читать онлайн бесплатно
В более поздних моделях космических аппаратов круг функций ручного управления все более расширялся, но космонавты по-прежнему в основном служили для подстраховки на случай сбоя автоматики; стандартным режимом управления оставался автоматический. Космонавты были «спроектированы» как часть большой технической системы; их рост и вес строго регламентировались, а действия были тщательно запрограммированы. Образно говоря, советская космическая политика была отпечатана на телах и в умах космонавтов, поскольку они вынуждены были встраиваться в свои корабли как физически, так и ментально.
Космонавты активно противостояли этой тенденции, которую они считали «засильем автоматов»241. Будучи по профессии летчиками, они полагали, что, если дать человеку больше возможностей по управлению аппаратом, это только повысит надежность и эффективность космических полетов. Некоторые космонавты были убеждены, что господство автоматики в космической программе является проявлением идеологизированного отношения к индивиду как к незначительному винтику в колесе242. Строгое регулирование своей деятельности на борту они считали отражением общей ситуации социального контроля в советском государстве243. Анализ расхождения между публичным имиджем космонавтов как символов коммунизма и их неоднозначной профессиональной идентичностью может помочь прояснить фундаментальные противоречия советского дискурса о коммунистической личности в хрущевскую эпоху.
Историки давно занимались изучением попыток реформирования человеческой личности в СССР. Попытки создать нового советского человека играли ключевую роль в советском проекте. В тоталитарной модели этого общества на первый план выдвигается «винтик в колесе» как центральная метафора нового советского человека244. Она воплощает в себе представление о пассивном индивиде, подчиненном коллективу, и предполагает, что партия и государственный аппарат действуют подобно некой машине, контролирующей общественную жизнь.
В последние двадцать лет ученые начали ставить под вопрос представление о пассивной природе советского человека и изучать эволюцию представлений о личности в советской истории. Так, Владимир Паперный предположил, что в советском обществе было две противоположных культурных тенденции, которые преобладали в разные периоды: первая, ориентированная на механизм и коллективизм, господствовала в 1920-х годах, а вторая, сосредоточенная на человеке и индивидуализме,– в 1930–1950-х245. Игал Халфин и Йохен Хелльбек утверждали, что сталинский субъект не был лишь пассивным потребителем официальной идеологии. С их точки зрения, советская молодежь усваивала коммунистические ценности и активно работала над собой, стремясь к манящему их идеалу нового советского человека246. Шейла Фицпатрик, в свою очередь, обнаружила более приземленные причины для усилий индивидов по конструированию для себя новых идентичностей. Поскольку советское государство практиковало дискриминацию по классовой принадлежности, находчивые граждане часто перевоплощались, выдавали себя за другого и откровенно мошенничали, чтобы заявить о своих «пролетарских» корнях и революционной идентичности247.
Переход от сталинской эпохи к хрущевской политической оттепели привел к заметному изменению преобладающей концепции личности. Историки расходятся во мнениях по поводу направления этого изменения. Елена Зубкова описала сталинскую эпоху как эпоху коллективизма, за которой в годы Хрущева последовал «поворот к человеку»248. Олег Хархордин, напротив, провел историческую траекторию от коллективизма 1920-х годов к индивидуализму 1930–1950-х и новому коллективизму 1960-х. Он выдвигает дискуссионный тезис, что при Сталине пространство свободы было больше, чем при Хрущеве. В то время как сталинский террор был карательным и бессистемным, хрущевские меры были направлены на конструирование всеобъемлющей рациональной системы превентивного взаимного надзора249.
Если политика воспитания нового советского человека до сих пор озадачивает историков, то современников она запутывала еще больше. Именно двусмысленности нового советского человека как идеологической конструкции и посвящена эта глава. Вместо того чтобы считать эту двусмысленность результатом противоречий в политике, я интерпретирую ее как продукт фундаментальных идеологических противоречий в советском дискурсе о личности.
Советская пропаганда часто использовала большие технологические проекты вроде космической программы в качестве символов построения социализма и коммунизма. В этой главе понятие нового советского человека анализируется сквозь призму знаковых репрезентаций – от героя-летчика в сталинский период до космонавта в хрущевский. В этих случаях человек рассматривался как активный деятель и в то же время определялся как часть технической системы. Первое качество предполагало автономию, второе – дисциплину и субординацию. Напряжение между ними породило парадокс «дисциплинированной инициативы», от которого приходилось страдать и космонавтам, и новому советскому человеку.
«А вместо сердца – пламенный мотор»: новый советский человек в небе
В новаторском исследовании советской техники при Ленине и Сталине историк Кендалл Бейлс отмечал, что в 1930-х годах известные советские летчики стали «главными образцами „нового советского человека“, которого хотели создать власти»250. В апреле 1934 года Михаил Водопьянов, Николай Каманин и пятеро других летчиков, проявивших героизм при спасении экипажа парохода «Челюскин», стали первыми советскими гражданами, удостоенными только что учрежденного звания Героя Советского Союза. По точному замечанию историка Джея Бергмана, герои воздухоплавания стали «идеологическими прототипами, предшественниками людей, которые будут населять будущее; их достижения… давали советским людям представление о том, каково будет жить при коммунизме»251.
В ноябре 1933 года Сталин выдвинул новый лозунг, призывающий советских летчиков летать дальше, быстрее и выше всех, и Советский Союз включился в международную гонку за авиарекордами. К 1938 году они поставили 62 мировых рекорда, в том числе, как потребовал Сталин, совершили самый дальний, самый быстрый и самый высокий полеты252. Авиация стала одной из самых зрелищных «показных технологий» (display technologies): она демонстрировала советскую техническую мощь и указывала на идеологическое превосходство советского режима253.
Согласно проницательному наблюдению Бейлса, режим искусно эксплуатировал массовое увлечение авиацией, чтобы уравновесить отрезвляющий эффект Большого террора 1936–1938 годов254. Пока сотни тысяч гибли в тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях, Сталин устраивал торжественные церемонии в честь новых авиарекордов, чтобы подчеркнуть свою личную заботу о человеческой жизни. «Ваша жизнь дороже нам любой машины», часто говорил он летчикам, убеждая их не идти на неоправданные риски255. Однако именно это они и должны были делать, чтобы ставить рекорды, столь ценные для пропагандистского фронта. В январе 1934 года экипаж стратосферного аэростата «Осоавиахим-1» установил новый мировой рекорд высоты полета, посвятив достижение XVII съезду партии. Однако во время полета экипажу пришлось вывести аппарат за допустимые параметры эксплуатации, и
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.