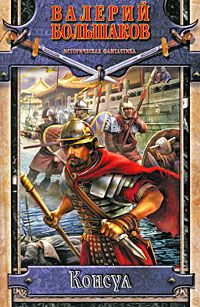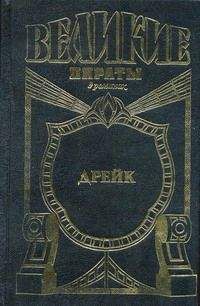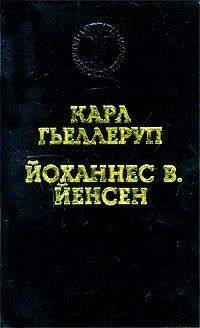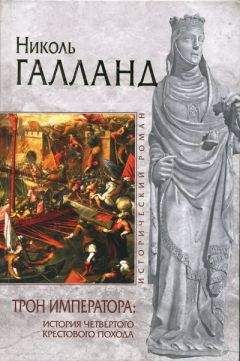Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке - Пьеро Кампорези Страница 15
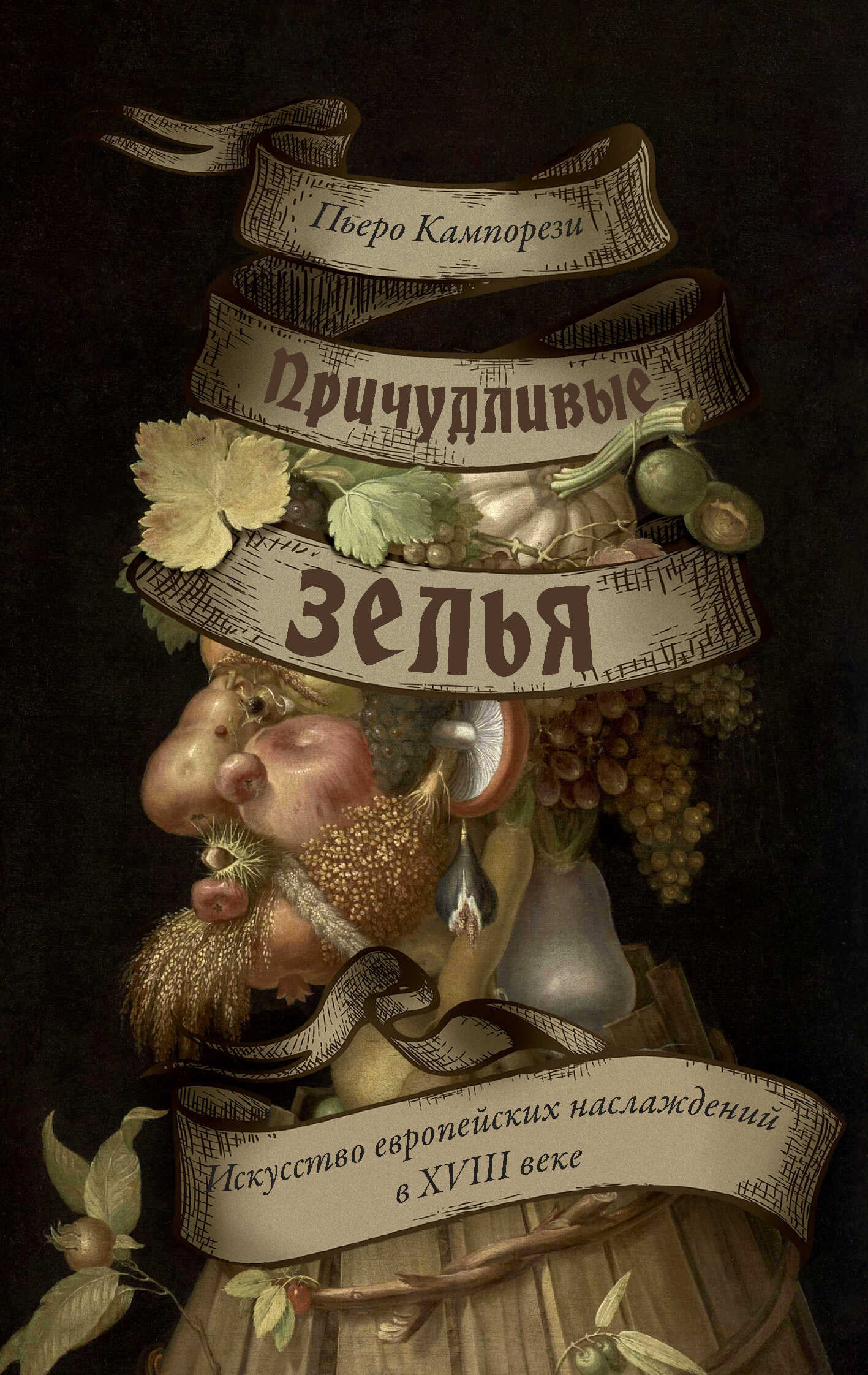
- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Пьеро Кампорези
- Страниц: 54
- Добавлено: 2025-08-29 02:04:06
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке - Пьеро Кампорези краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке - Пьеро Кампорези» бесплатно полную версию:XVIII век стал временем формирования новой европейской ментальности. Философы эпохи Просвещения учили руководствоваться собственным разумом, ученые – обращаться к естественным законам, а технические достижения расширяли границы возможного. Но вместе с духовным менялось и повседневное: на столы начали ставить новые блюда, а гастрономические предпочтения превратились в такую же популярную тему для обсуждений, что и книжные новинки.
Книга итальянского историка Пьеро Кампорези знакомит читателя с одной из важнейших страниц галантного века – историей вкусов и экзотических блюд. Гастрономические привычки отражали особенности общества того времени и его интересы. Китайский чай, кофейные зерна, плоды дерева какао становились все популярнее и сплачивали вокруг себя все больше любителей вкусовых наслаждений. Сервировка блюд превратилась в новое искусство, о мастерстве французских поваров знали во всех уголках Европы, а каждая знаменитость исповедовала собственную и неповторимую диету. Искусство жить еще никогда не было столь изысканным.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке - Пьеро Кампорези читать онлайн бесплатно
Эфемерные нотки ароматов, настолько легкие, что они почти растворялись в ничто, маленькие сокровища не столько для чувств, сколько для воображения. Ибо этот восточный экстракт – и многие другие новые услады, которые
«впервые пробуют или обсуждают, поскольку никто не ожидал, что они могут вызвать такой ажиотаж, – изначально кажется непривлекательным, если не быть заранее готовым к его утонченности. Но чувствительные натуры, любопытные и открытые новому, не ищут реального вкуса – их душа, вдохновленная предчувствием, жадно спешит навстречу своей иллюзии. Вкус еще не прикоснулся, а она уже погружается в созданный ею самой образ сладости, наслаждаясь собственным воображением, принимая его за истинное наслаждение. “Иногда посреди трапезы,” – (пишет о Биббиена, который стал впоследствии кардиналом, один из его современников) – “его охватывало желание приготовить соус, который еще не пробовал ни один повар. Он много практиковался, и каждый день ему удавалось порадовать гостей, либо потому, что он был мастером в искусстве потакать вкусам, либо потому, что сами критики позволяли себе обмануться”»[259].
«Утонченные» духи эпохи увядающего рококо и барокко, влюбленные «в веру», создающие в своих внутренних лабораториях иллюзорные сладости, были последними представителями своего рода. К середине XVIII века (несмотря на кажущуюся видимость) они исчезнут. Типичные продукты, родившиеся на волне кризиса между двумя эпохами, они не перевоплотятся и не возродятся даже в легких и изменчивых ароматах кулинарной практичности XVIII века. И уж тем более не возродится всеядный призрак Полифагона, «великого чревоугодника», человека-желудка, который бродил по залам знати и являлся при королевском дворе времен Людовика XIII и Ришелье под маской Seigneur Panphagus («господина Пожирателя»), «великого придворного обжоры-Эпулона», которого Франческо Фульвио Фругони[260] перенесет из «Скептического банкета» авторства Франсуа де Ла Мот Ле Вайе[261] в свой восторженный мелодраматический труд «Эпулон»[262].
«Я наблюдал за ним на протяжении всей трапезы, – рассказывает Эраст в одном из “Пяти диалогов, составленных Горацием Тубером, в подражание древним” (Cinq dialogues faits à l’imitation des Anciens) Орация Тубера[263] – он расправлялся с едой так быстро и с таким аппетитом, что я, по правде говоря, поверил, что у него, как и у оленей, коз и овец, не один, а несколько желудков, и что, подобно ежам, ракам и саранче, у него в этих желудках есть еще зубы, чтобы можно было пережевать второй раз. Я уверен: будь у нас всего один желудок, любой из нас разорвался бы, если бы этот живот не открывался и не закрывался на пуговицы, как у обитателей Луны»[264].
В те годы, когда Панфагус разгуливал среди роскошных столов частных резиденций, знатные кардиналы и другие высокопоставленные представители итальянского духовенства во время предписанных постов прибегали к хитроумным кулинарным уловкам, которые, обманывая глаз, скрывали запрещенные продукты под безобидным внешним видом. Поистине «изобретательным» было чревоугодие эпохи Контрреформации, которое умудрялось, играя формами и цветами, тайком проносить вкусное, но запретное мясо.
«Не стоит верить тому, что видишь, – писал Франческо Ридольфи, глава Академии делла Круска[265], главному медику, автору “Вакха в Тоскане” (Bacco in Toscana)[266], размышляя о кажущейся легкости его знаменитого дифирамба, – я видел во время Великого поста на обедах крупных духовных особ, где не хотят вызвать соблазна, белые супы, кефаль, камбалу и форель. Но супы были сделаны из растопленной жирной курятины, а рыба – из мяса куропаток, фазанов и тетеревов, которому ловко придали нужную форму»[267].
Впрочем, было бы наивно ожидать, что все, и великие, и малые, церковные чины ради избегания соблазнов добровольно подвергнут себя суровым и охлаждающим страсти испытаниям во имя воздержания, как это делал образованнейший иезуит Томмазо Санчес, большой знаток брачных законов и искусный врачеватель даже самых незначительных интимных проступков, который «тридцать лет своей жизни изучал эти вопросы, восседая на мраморном кресле, никогда не употреблял ни перца, ни соли, ни уксуса и, когда садился за стол обедать, постоянно держал свои ноги приподнятыми»[268]. Да, мраморное сиденье и еда без соли и перца! Мы не знаем, впрочем, что именно он ел: учитывая его исключительную добропорядочность, следует предположить, что иезуит воздерживался от слишком жирного мяса, а также избегал оленьих рогов, которые, приготовленные в том или ином виде, всегда присутствовали на столах гурманов-«безбожников». Страшные, как край бездны, maxime vitandus[269], как дьявольское искушение. «Нежные рога, – уверял Франческо Реди, – это настоящий деликатес на столах знати, сведущие повара готовят из них аппетитные блюда. Из уже твердых рогов, высушенных и отшлифованных, делают различные виды желе, очень приятные на вкус»[270]. Этот «гастрономический обычай»[271], получивший широкое распространение в фармакопее XVII века, скрывал в себе веру в то, что рога и гениталии оленя, животного, трепещущего от вожделения, – сильнейший афродизиак. Тот же Реди в своей «Молитве и жертвоприношении Венере» (Preghiera e sacrificio a Venere), преследуя «похотливые призраки» и «безумства лета», предаваясь сладострастным фантазиям, наблюдает pervigilium Veneris[272], где на «священном огне» горят «лавр, ладан, корица и шафран», а самой Киприде предлагают
Драгоценный корень
Славного сатира и нечистые гениталии
Плодовитого оленя Этрурии[273].
Став привычным блюдом на столе, рога этого парнокопытного пережили все падения королевств, все социальные потрясения, все перемены вкусов, все кулинарные революции, по крайней мере, те, которые случились до эпохи Реставрации. Рога вновь появляются среди «приправ к блюдам», по аналогии с «маслом», «пармезаном», «сушеными грибами» (в разделе «основные приправы»), на полпути между Старым порядком, романтизмом и Венским конгрессом и познаются в виде восхитительной кулинарной рапсодии, исполненной талантливым и необыкновенным Франческо Леонарди[274] в «Джанина, или Альпийская кухарка» (Gianina ossia La Cuciniera delle Alpi, Рим, 1817, т. 1, с. 45).
Бесполезно, однако, искать среди «продуктов четырех времен года», как и среди «обеденного меню», желе, полученное из гадюки, или ее мякоть – мясо, которому с древнейших времен приписывали способность значительно продлевать человеческую жизнь. Как считал Плиний Старший, представители племени так называемых макробиев[275], то есть долгожителей, постоянно употребляли в пищу это мясо. В западном мире, мире медицины и точных наук, богатые и могущественные велели, чтобы этим мясом, дарующим долголетие (и красоту для дам), откармливали птицу, которая затем окажется на их обеденных столах.
Принцы и короли не желали рано умирать или слишком быстро расходовать и без того скудный запас лет, который (как и у всех смертных) был в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.