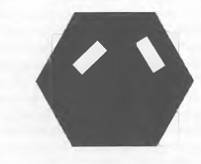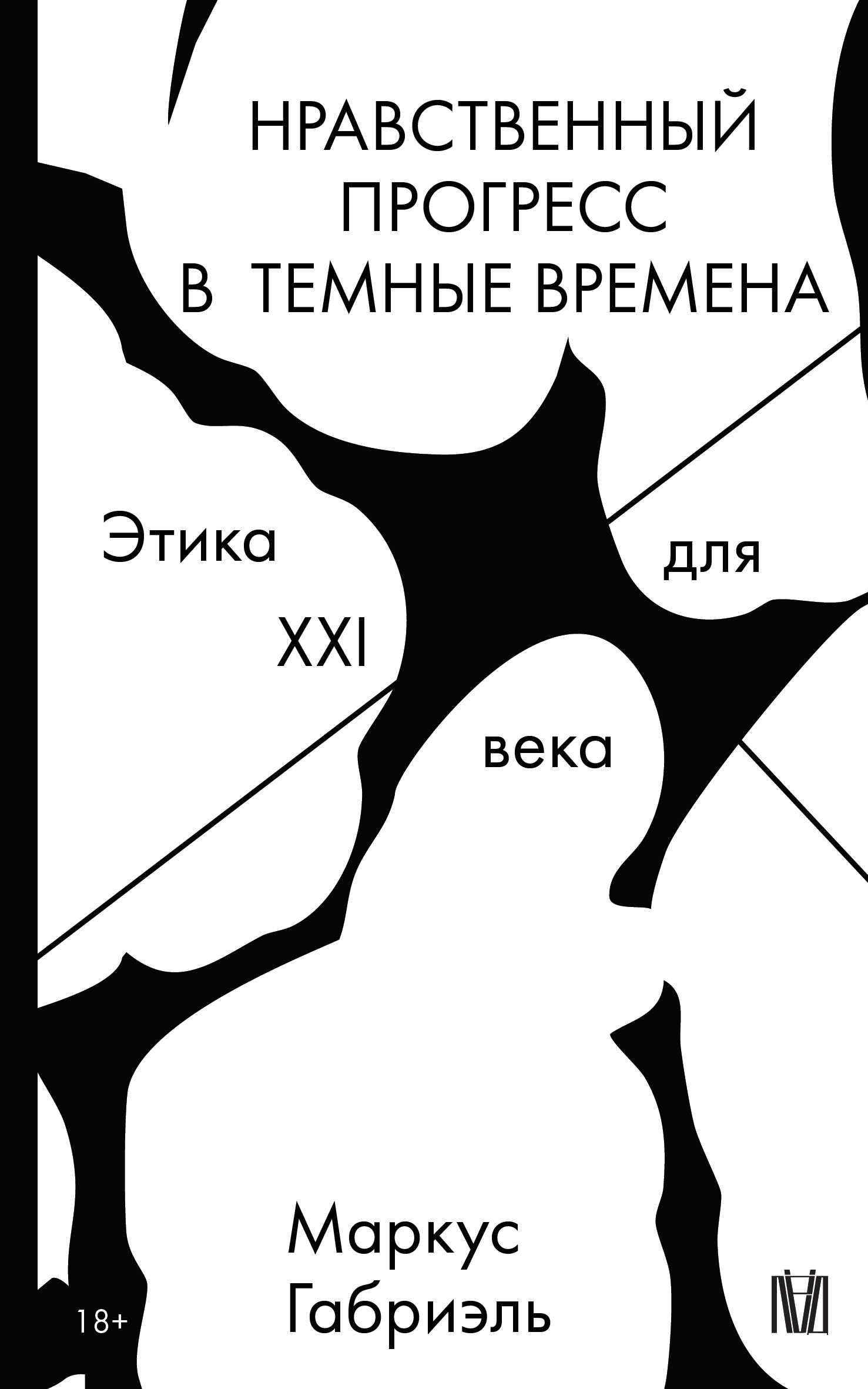Диалектика художественной формы - Алексей Федорович Лосев Страница 22
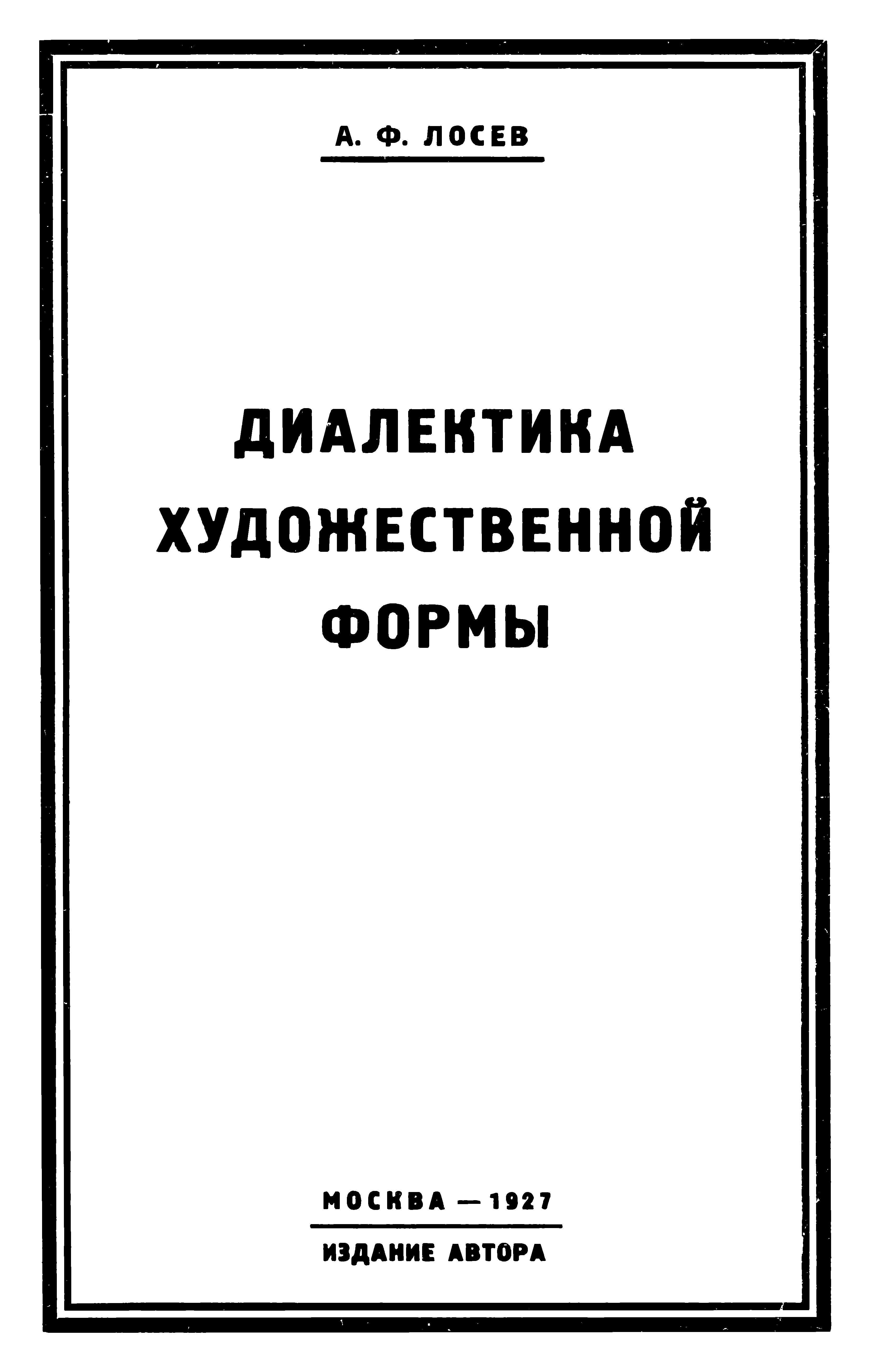
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Науки: разное
- Автор: Алексей Федорович Лосев
- Страниц: 105
- Добавлено: 2025-10-01 23:13:14
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Диалектика художественной формы - Алексей Федорович Лосев краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Диалектика художественной формы - Алексей Федорович Лосев» бесплатно полную версию:Настоящая небольшая работа пытается заполнить пробел, существующий в русской науке в области диалектического учения о художественной форме. Предлагаемая работа – часть большого труда по систематической эстетике.
Восьмикнижие:
1. Античный космос и современная наука. Μ., 1927. 550 стр.
2. Философия имени. Μ., 1927. 254 стр.
3. Музыка как предмет логики. Μ., 1927. 262 стр.
4. Диалектика художественной формы. М., 1927. 250 стр.
5. Диалектика числа у Плотина. М., 1928. 194 стр.
6. Критика платонизма у Аристотеля. М., 1929. 204 стр.
7. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. 912 стр.
8. Диалектика мифа. М., 1930. 250 стр.
Диалектика художественной формы - Алексей Федорович Лосев читать онлайн бесплатно
Обе антиномии в свою очередь синтезируются в новую «антиномию мифа», в третью.
Третья антиномия
Тезис. Художественная форма есть становящееся (и, стало быть, ставшее) понимание предметности, или энергийно-подвижной в своем понимании предмет.
Или короче: она есть тождество сознания и бессознательного.
Это – синтез первой «антиномии мифа».
Антитезис. Художественная форма есть становящееся (и, стало быть, ставшее) стремление, или влечение, к предметности, или энергийно-подвижной в своей привлекательности предмет.
Или короче: она есть тождество свободы и необходимости.
Это – синтез второй «антиномии мифа».
Синтез. Художественная форма есть энергийно-чувствуемая предметность, или тождество бессознательного сознания и свободной необходимости, т.е. бессознательная необходимость свободы сознания, или сознательная свобода бессознательной необходимости.
Короче говоря, художественная форма есть тождество субъекта и объекта [46].
Мы уже знаем из диалектики интеллигенции (§ 3), что знание, или самосоотнесенность, объединяясь с интеллигентным стремлением, дает интеллигентное чувство. Анализируя мифологическую природу художественной формы, мы приходим здесь к тому же.
Художественное понимание должно быть мифологическим пониманием.
То, что оно имеет в виду, должно быть им понимаемо с затратой своего влечения к нему. Художественная форма есть законченный миф, т.е. живое существо, самоотносящее и самочувствующее. В этом диалектическая разгадка той таинственной, загадочной одухотворенности, которой полно всякое произведение искусства. Простые и мало интересные вещи повседневного употребления – стулья, диваны, лампы, – становясь предметом искусства, необходимым образом одухотворяются, становятся живыми, превращаются в миф. И вот, мы раскрыли диалектическую тайну этой мифичности.
Одухотворенность изображенного в искусстве предмета есть, во-первых, его самоотнесенность.
Красиво отделанная ручка или спинка кресла сама себя с собою же соотносит. Это значит, что она выражает некий смысл, предполагающий самосознание. Спинка или ручка кресла (беру намеренно неодушевленный и подчеркнуто прозаический предмет) становится монументально-созерцательной, игриво-простодушной и т.д. Музыка есть всегда что-нибудь грустное, веселое, энергичное, подавленное, созерцательное, настроительное, грозное, нежное, грубое, гордое, скромное и т.д. и т.д. Это все признаки того, что в искусстве мы имеем не просто вещи, которые можно рассматривать только с их вещной же стороны, но имеем соотносящиеся вещи, т.е. их смысл предполагает некое самосознание или его степень. При этом, раз мы не субъективисты и не психологисты, то это самосознание должно нами трактоваться как черта самой предметности.
Во-вторых, мифичность диалектически требует, кроме самосоотнесенности как устойчивой данности, еще и увлекаемость, влечение, стремление формы самой к себе (чтó воспринимающим всегда должно пониматься как его собственное стремление и влечение к форме).
Самосоотнесенность сама полагает себя как нечто осмысленное, и вот это полагание и есть влечение – к самой же себе. Так, наивно-простодушная или величаво-торжественная музыка творится как таковая. Рассуждая эмпирически-психологически, надо сказать, что мы должны ее прослушать, проделавши все необходимые внутренние движения – во всей той их связности, какая требуется со стороны изображаемого предмета.
Наконец, в-третьих, мифичность предполагает, как того и требует синтез третьей антиномии, и связанность первых двух интеллигентных принципов.
Я знаю себя целиком. Но знать себя – значит знать свою границу, свое очертание, свое отличие от иного. Стало быть, мое знание себя уже предполагает какое-то чуждое мне иное. Но иного ничего нет в моем знании о себе. Иное не есть новый факт, который бы стоял рядом со мною. Иное – момент во мне же, это – тоже я. Стало быть, зная себя, я тем самым полагаю и свою границу. Я полагаю себя и свою границу. Я знаю себя и ставлю сам же границу для этого знания. Это значит, что я стремлюсь к себе. В стремлении я именно полагаю и себя и препятствие для себя. Но кто такое тогда Я? Это уже не то Я, которое только знало себя. Это – Я, которое и знает себя и стремится к себе. Значит, это – гораздо более богатое Я. Я, устремившийся на себя, привлеченный к себе, стал тем самым уже чувствующим себя. Чувство и есть знающая себя устремленность к себе. Это значит, что я – миф. Я – сам для себя объект.
Художественное понимание, или форма, знает себя, стремится к себе, чувствует себя, и потому она – миф. Она – полная одухотворенность. Вот почему нет поэзии без мифологии. Вспомним хотя бы из Пушкина: пустыня – «чахлая и скупая»; природа – «жаждущих степей», или из Лермонтова: «тучки небесные» – «вечные странники» и т.д. Везде тут предмет изображен так, что он сам себя или знает, или чувствует, или стремится к себе. И потому наше понимание, если оно художественно, оно или знает или чувствует или стремится или тут – всё вместе. Полный миф требует именно законченного, завершенного в себе чувства. Поэтому, независимо от того, какова выражаемая предметность сама по себе, выражение и понимание ее должно быть чувством.
Необходимо к этому прибавить, что надо именно строго различать между одушевленной предметностью и одушевленным выражением. Сама по себе предметность не есть задача искусства. Задача искусства – дать выражение предметности. Собственно говоря, предметность в отвлеченном смысле слова может быть какой угодно, одушевленной и неодушевленной, мифичной и не-мифичной. Но выражение предметности в поэзии обязательно должно быть мифичным.
Для ясности нужно сказать еще и то, что одушевленность предмета отнюдь еще не обусловливает одушевленности выражения. Так, о человеке можно сказать, что он скуп и зачахнул в своей скупости. Тут будет идти речь об одушевленном предмете, о мифе, и в то же время не получится никакого поэтического момента.
Но вот тот же Лермонтов говорит:
«Мелькают образы бездушные людей, –
Приличьем стянутые маски», –
и уже чувствуется, что те же самые одушевленные предметы, люди, в которых нет ничего поэтического как в таковых, вдруг понимаются поэтически.
Или – у него же:
«Как ранний плод, лишенный сока,
Душа увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия».
Можно сомневаться, если угодно, в поэтичности этих образов, но нельзя сомневаться в их мифологичности (последняя, конечно, вполне совместима с не-поэтичностью, так как мифическое значительно шире поэтического, равно как и миф шире формы).
Наконец, напомним еще раз, что все эти рассуждения о знании, стремлении и чувстве не имеют ничего общего с установками традиционной психологии. Последняя рассуждает или по крайней мере хочет рассуждать чисто эмпирически, не выходя за
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.