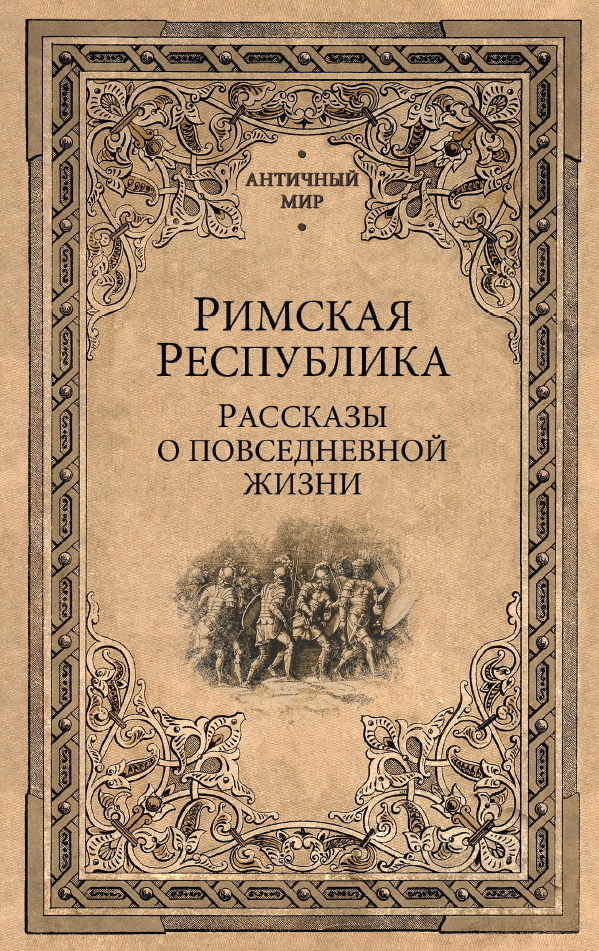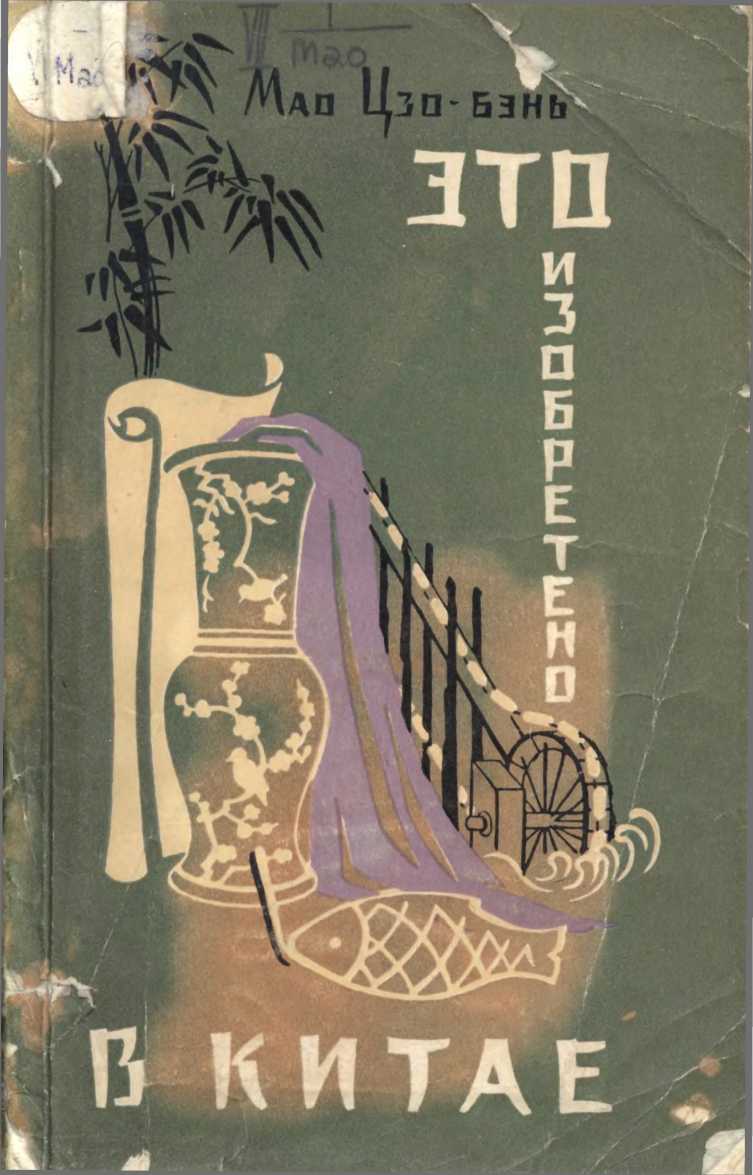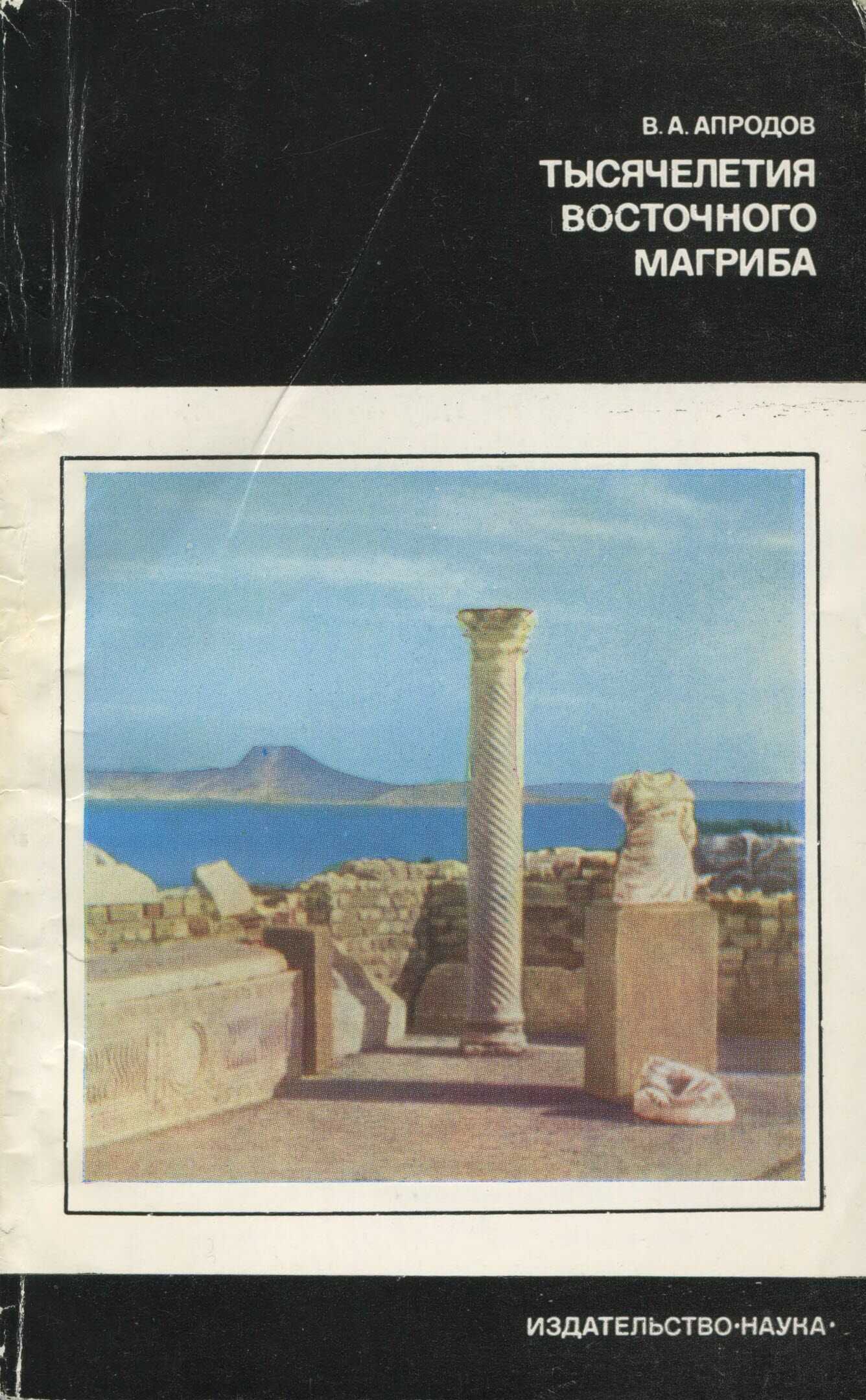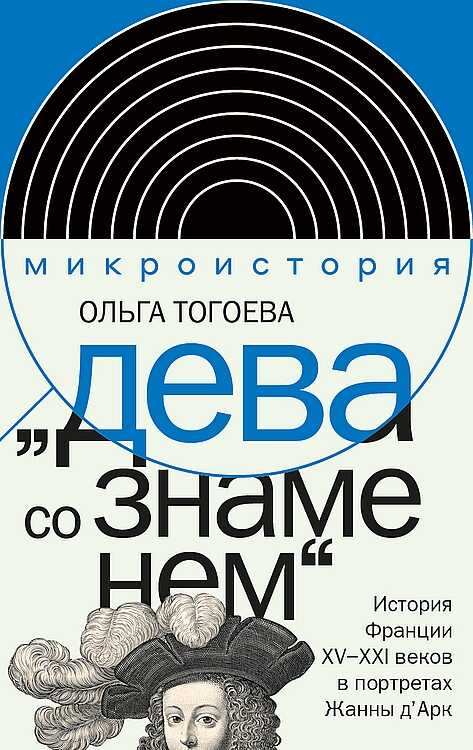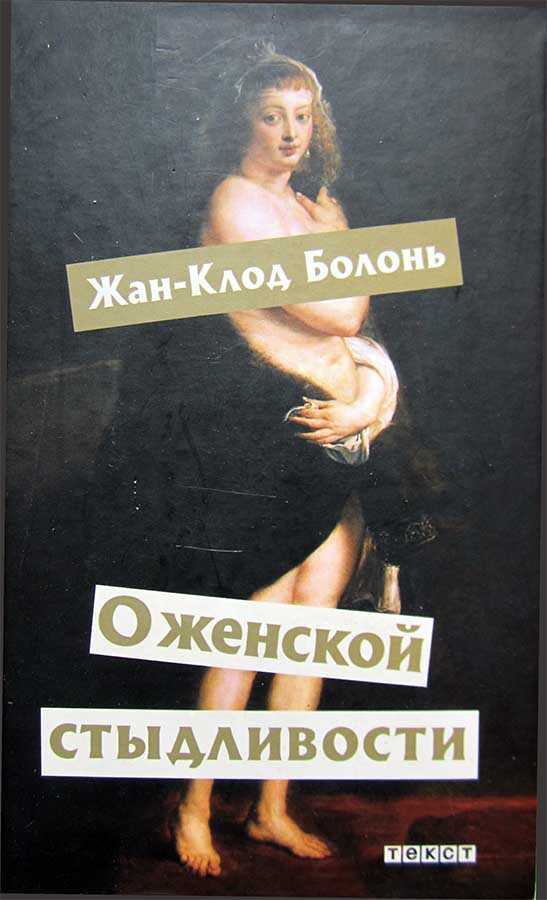История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес Страница 42
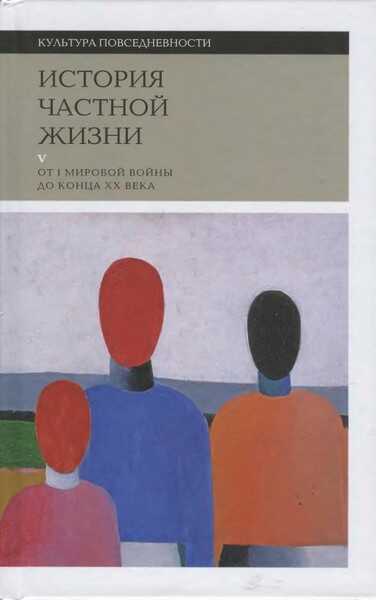
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Филипп Арьес
- Страниц: 167
- Добавлено: 2025-11-02 10:02:30
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес» бесплатно полную версию:История частной жизни: под общ. ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 5: От I Мировой войны до конца XX века; под ред. А. Про и Ж. Венсана / Софи Боди-Жандро, Реми Лево, Кристина Орфали, Антуан Про, Доминик Шнаппер, Перрин Симон-Наум, Жерар Венсан; пер. с фр. О. Панайотти. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 688 с. (Серия «Культура повседневности») ISBN 978-5-4448-0998-3 (т. 5) ISBN 978-5-4448-0149-9
Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. Пятый, заключительный том — о XX веке, в котором частная жизнь претерпела невероятные изменения. Здесь рассказывается о дегуманизации человека на войне и в концлагере, о сексуальной революции и новом восприятии спорта, о том, как можно хранить личные тайны в эпоху массмедиа и государственного контроля, о трансформациях религии и появлении интернета — и о многом другом.
История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес читать онлайн бесплатно
КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ВООБРАЖЕНИЕ
Как было вчера
Кафка рассказывает «историю человека, добивающегося, чтобы его пропустили к Закону. Страж у первых врат говорит ему, что за ними есть много других и там, от покоя к покою, врата охраняют стражи один могущественнее другого. Человек усаживается и ждет. Проходят дни, годы, и человек умирает. В агонии он спрашивает: „Возможно ли, что за все годы, пока я ждал, ни один человек не пожелал войти, кроме меня?“ Страж отвечает: „Никто не пожелал войти, потому что эти врата были предназначены только для тебя. Теперь я их закрою“»[84]. Кафка — и Борхес, который об этом рассказывает, — открывают перед нами двери воображаемого. Идет ли речь о памяти или о воображении — нечто социальное всегда здесь присутствует, как стражник у двери. Макиавелли описывал хитрости власть имущих, создававших мир иллюзий, чтобы держать подданных в подчинении. В работе «18 брюмера Луи Бонапарта» Маркс пишет, что главари революций всегда выдают себя за тех, кем не являются: Лютер — за святого Павла, якобинцы — за основателей Римской республики. В книге «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер задается вопросом, как же должны были реформаты интерпретировать священные Тексты (Библию), чтобы превратить их в теоретическую основу современного капитализма, ведь подобная цель противоречила их содержанию. То, что христианская этика и иллюзии или истины (в зависимости от того, как к ним относиться), которые она сообщает, производят революцию в экономике, не казалось ему очевидным. Жорж Сорель утверждал, что идея всеобщей стачки (без сомнения, утопическая) тем не менее укрепляет воинственный дух трудящихся. Начиная с 1920-х социальное воображение среди прочего создало мифы о «последней из войн»; о «коммунистическом рае»; о «Сталине — лучшем из людей»; о «плановой экономике», демонстрирующей главенство человека над экономическими механизмами; о деколонизации и следующем из нее расцвете культурного разнообразия в рамках демократии; об уничтожении либерализмом бедности в богатых странах; а также оппозицию, вне зависимости от политической окраски, утверждающую, что завтра все станет возможно, и т. д.
В эпоху «трех парок» — чумы, голода, войны — воображаемое было краткосрочным и долгосрочным: надо было, во-первых, выжить, во-вторых, попасть в число избранных, а не проклятых. Границы между сословиями смешивались: и дворянин, и простолюдин, и богатый, и бедный, и священник, и мирянин могли переносить в своей одежде Xenopsylla cheopis — чумную блоху, попавшую в Европу по Великому шелковому пути. В те времена все верили в ад и рай, что до некоторой степени ограничивало садистские и сексуальные порывы. С началом эпохи Возрождения воображение дополнилось грекоримским антропоморфизмом. Иудео-христианский монотеизм и политеизм были едины во мнении по поводу слабости человека перед непостижимой волей Бога или Судьбы. Эти традиции живут и после I Мировой войны, обогатившись, осмелимся сказать, воспоминаниями о только что пережитых ужасах. Воображение работает в основном благодаря текстам — будь то Библия, «Отверженные» или «Воспитание чувств».
Что происходит сегодня
Современный мир в большей степени, чем все предшествующие эпохи, — это мир зрительных образов. За один день ребенок видит сотни, даже тысячи картинок: рекламу в метро и на улицах, афиши, комиксы, богато иллюстрированные школьные учебники, иногда кино, каждый вечер телевизор. Его воображение теперь работает не на основе устных или письменных высказываний, но на основе потока — метафора здесь весьма уместна — картинок и образов, который обрушивают на него средства массовой информации. Не думая о конце света — если будущее для него важно, — он посвящает себя покорению природы, завоеванию Луны (про рассеянного человека больше нельзя сказать, что он «на луне»{38}, потому что люди добрались туда не в мечтах, а в научных целях), звездным войнам. Еще вчера можно было месяцами грезить о любви Юлии д’Этанж и Сен-Прё и подолгу размышлять о величии души — а может, о макиавеллиевском прагматизме? — де Вольмара{39}. Сегодня на это нет времени. Едва кончается четвертая серия сериала «Новая Элоиза», как начинается драма из жизни мафии, а вслед за ней — репортаж об очередных подвигах какого-нибудь теннисиста или футболиста. Все эти образы, которыми нас пичкают, могут создать иллюзию объективности. Однако картинка не нейтральна: все хитрости с установкой кадра придуманы еще Дега; фотографы и кинооператоры субъективизировали образное присутствие — монтаж, то есть заданная последовательность образов, придает зрительной хронологии смысл.
Означает ли это, что мы присутствуем при революции в функционировании воображения, сопоставимой с той, что произвел Коперник? Вряд ли. Видя в инновациях лишь промежуточные стадии на исторической оси, историк не устает поражаться тому, как многое остается неизменным. У человеческого воображения есть границы. Идет ли речь о тератологии, как это было вчера, или об инопланетянах, как происходит сегодня, — во главе угла продолжает стоять антропоморфизм. Грешники Босха, как и персонажи мультсериалов «Грендайзер» или «Сатаник», похожи на нас как братья. Воображение — всего лишь демонстрация нарциссизма, и мы не в состоянии представить себе существо, которое радикальным образом отличалось бы от нас. Новые формы придумывают ученые и инженеры, а не поэты и писатели. Катамараны и тримараны пришли на смену монококу (однокорпусному судну), возбуждавшему воображение читателей «Моби Дика». Формы и силуэты
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.