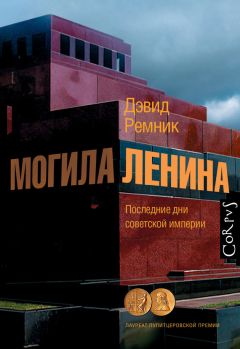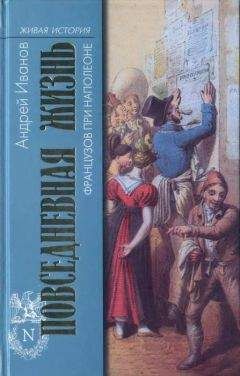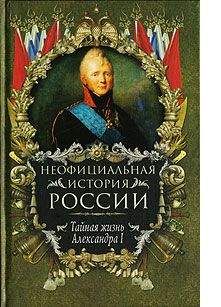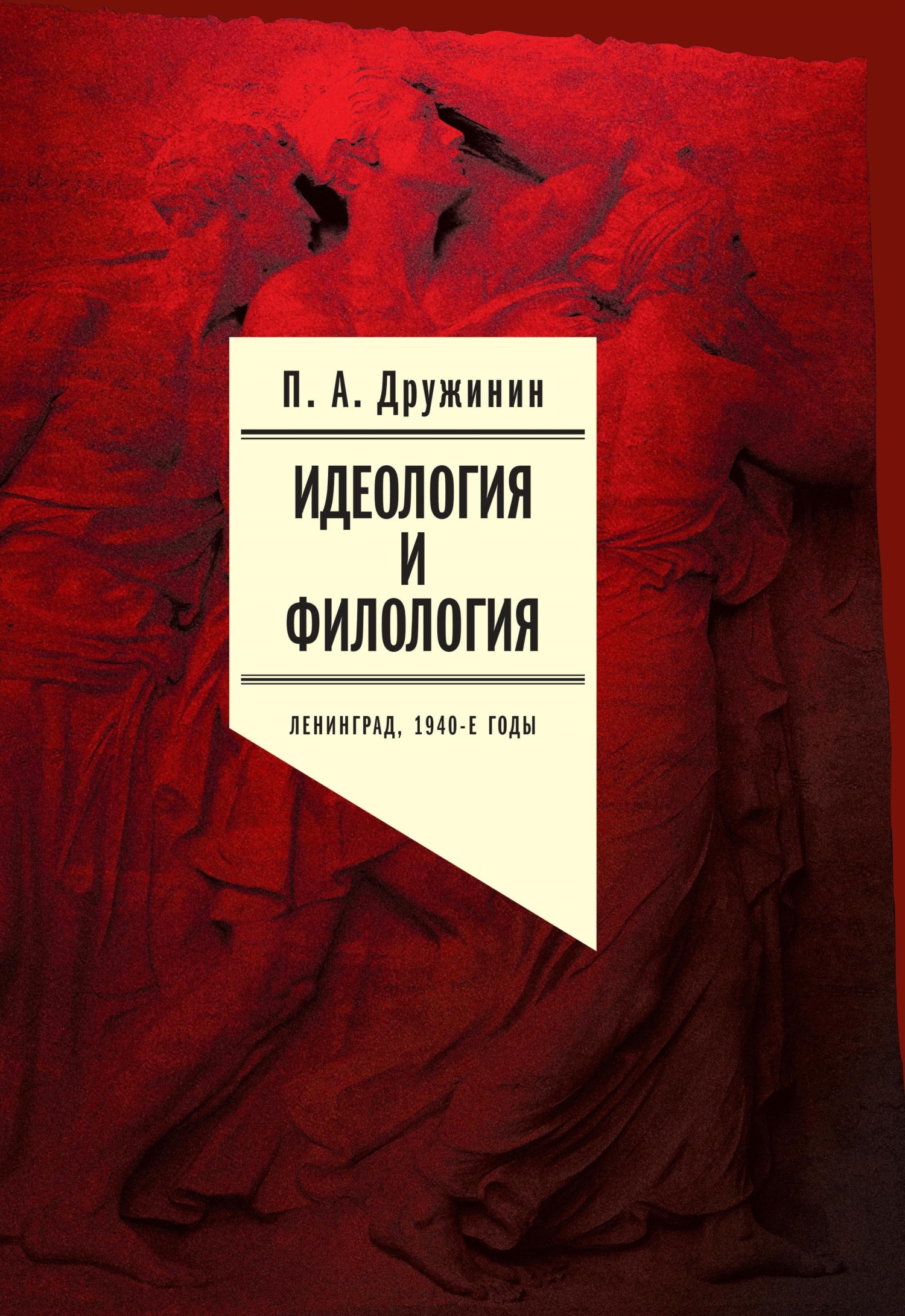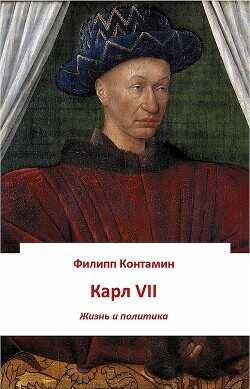Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа Страница 37
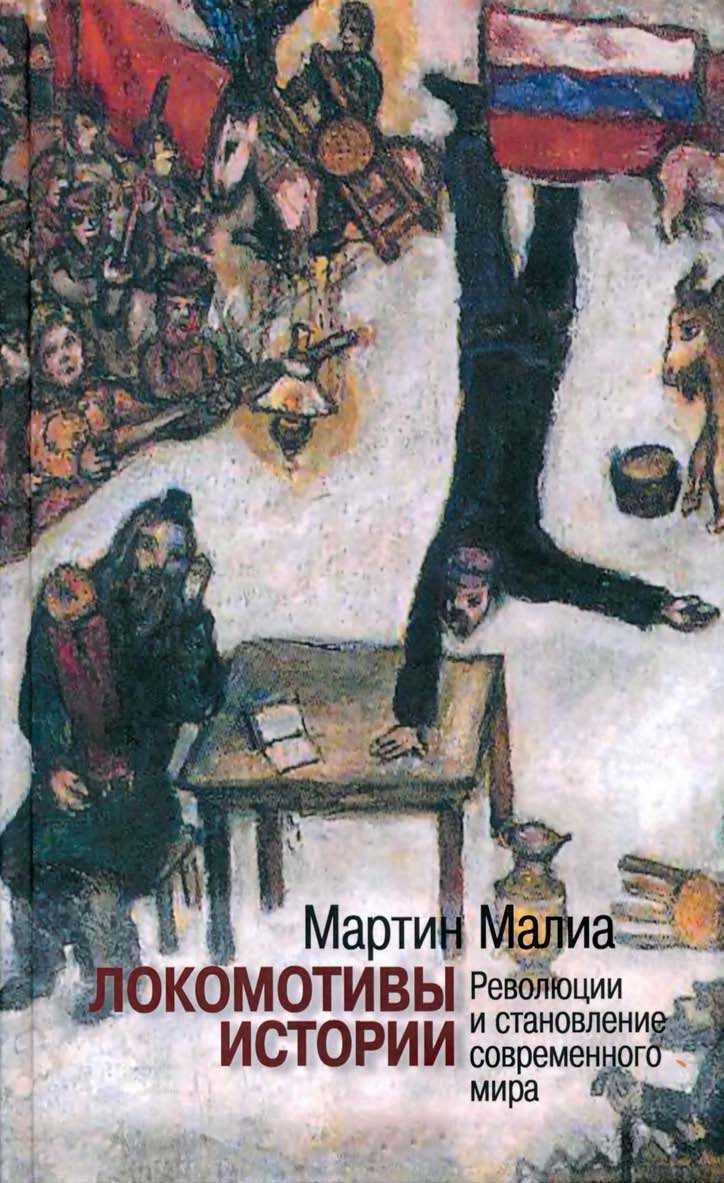
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Мартин Малиа
- Страниц: 128
- Добавлено: 2025-06-27 22:11:00
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа» бесплатно полную версию:÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Американский историк Мартин Малиа исследует европейские религиозные конфликты XV и XVI вв., революционные события в Англии, Франции, Соединённых Штатах и России. В итоге он приходит к выводу, что корни революционных событий XX в. уходят глубоко в историю Европы, а революционная мысль и модель поведения от одной великой революции к другой подвергались процессу радикализации. Малиа предлагает оригинальный взгляд на феномен революции и даёт интересную оценку влиянию этого феномена, рассматривая его как движущую силу исторического процесса.
Книга рассчитана на специалистов-историков и широкий круг читателей.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читать онлайн бесплатно
Кто же в целом выиграл и проиграл в германской Реформации как революции? Из первоначального революционного всплеска победителями вышли городская верхушка на юге и местные князья в других регионах, особенно в центре и на севере. Главным проигравшим в этой фазе стал «простой человек». Однако в период консолидации, когда религиозные вопросы решались военным путём, города, при всей крепости их стен, не могли соперничать с князьями и все чаще терпели поражение. Впрочем, наибольшие потери в обеих фазах понесла церковь. Такие крупнейшие церковные владения, как Кёльн и Вюрцбург, сумели выжить ценой уступок княжеской гегемонии, но в прочих местах духовный «меч» сильно ослабел. Вообще так или иначе проиграли и император, и церковь, и города, и, конечно, «простой человек», а больше всего выиграли местные князья.
В итоге германскую Реформацию можно назвать первой «прерванной революцией» (revolutio interrupta) в периодичном европейском революционном процессе. Она представляет собой первый пример одного из главных вариантов базовой модели полной европейской революции, сложившейся в гуситской Богемии. Как мы увидим далее, этот вариант будет в основном характерен для Центральной Европы, особенно в 1848 г.
4. Гугенотская Франция, 1559–1598
Дайте мне древесину, и я пошлю вам стрелы.
Жан Кальвин — французским церквям
Париж стоит мессы.
Генрих Наваррский
Со второй половины XVI в. августинианская теология кальвинизма и его революционная пресвитерианская экклезиология стали движущей силой протестантства в Европе, распространяясь из кальвинистской Женевы на восток в Польшу и Венгрию, на север в Нидерланды, Шотландию и Англию, а в следующем столетии и в британские колонии Северной Америки. В лютеранской Германии эта «вторая Реформация» приобрела такой важный оплот, как Пфальц, новое вероучение даже принял в качестве своей религии правящий дом Пруссии, которая в конечном счёте превратится в самое значительное из германских государств[101].
Однако первого и на некоторое время наиболее заметного успеха «реформатская» церковь, как она сама себя называла, добилась на родине Кальвина — во Франции. С 1555 по 1562 г. кальвинистская доктрина проникла во все социальные классы, от знати и интеллектуалов до ремесленников и крестьян. Более того, в 1559–1562 гг. религиозный вызов совпал с системным кризисом монархического централизма, благодаря чему возникло базовое сочетание, которое в Нидерландах в 1556 г. и в Англии в 1640 г. породило настоящую революцию. Религиозное инакомыслие в пору своего расцвета охватывало до 10% населения[102], в других революционных ситуациях, в частности при голландском восстании, такой критической массы хватало, чтобы меньшинство возобладало в обществе. Но, несмотря на подобную динамику, кальвинизм потерпел во Франции сокрушительное поражение, его революционный потенциал рассеялся за тридцать лет гражданской войны. Отсюда возникает большой вопрос: почему сила столь парадоксально привела к провалу? И что говорит нам этот провал о динамике европейской революции в целом?
Увы, такие вопросы отнюдь не занимают центрального места в историографии «французских религиозных войн», как обычно именуется интересующий нас период. Так же как в работах о Реформации и гуситах, историки сначала сосредоточились на проблеме религии, в данном случае — поиска конфессиональной идентичности меньшинством современных французских протестантов. Их усилия увенчались выходом многотомных трудов Пьера Эмбара де ла Тура и Эмиля Думерга — перед этими двумя классиками в долгу все последующие авторы[103]. Вторым главным стимулом исследований служил патриотический интерес французов к становлению французского государства, для которого войны являлись досадной помехой. Такое направление задано в соответствующих томах классической «Истории Франции» Эрнеста Лависса[104], по сей день представляющих наиболее подробный рассказ о событиях того времени. Но серьёзнейший поворот в его интерпретации произвела школа «Анналов». Один из основателей журнала Люсьен Февр положил начало современным внеконфессиональным исследованиям религии XVI в. в её социальных и культурных аспектах[105]. Позже ещё один представитель школы, Эммануэль Ле Руа Ладюри, оживил традиционный взгляд на религиозные войны с точки зрения формирования государства, дополнив его анализом социальной, экономической и демографической истории[106]. Акцент на собственно религиозную сторону событий, характерный для работ Февра, нашёл продолжение в более углублённой форме в нескольких книгах Дени Крузе, по мнению которого обе стороны конфликта буквально считали себя «воинами Господними»: гугеноты — солдатами нового священного завета, католики — крестоносцами, защищающими святую землю от неверных[107].
Лишь изредка религиозные войны во Франции рассматривались как разновидность революции. Разумеется, довольно регулярно, хотя и поверхностно обсуждались поразительные намёки на 1789 г., которые можно увидеть в Парижском бунте 1588 г. Но очевидные параллели с современным последнему восстанием в Нидерландах и событиями в Англии после 1640 г. не привлекли внимания, которого заслуживали. Наиболее примечательная попытка исправить это упущение была вдохновлена расцветом «стасиологии» после Второй мировой войны. Её автор — Перес Загорин, использовавший в своей работе 1980 г. богатую национальную и конфессиональную историографию Европы XVI–XVII вв. для весьма поучительных сравнений между разного рода восстаниями и мятежами[108]. Его обобщения (слово «модель» будет здесь чересчур сильным) по каждому случаю идеально соответствуют историческим фактам. Хотя Квентин Скиннер в большом труде, посвящённом истории современной политической мысли, представляет гугенотов как революционное движение[109], социальная наука «стасиология» почти не обратила на это внимания. В данной главе я следую примеру Загорина, правда, сравниваю в основном не одновременные, а происходившие друг за другом события.
Историческая обстановка
Население Франции середины XVI в. при Валуа насчитывало порядка 19 млн чел.; это было самое многонаселённое государство в Европе с крупнейшей столицей — Парижем, где проживало около 300 тыс. чел. Французское королевство также занимало самую большую территорию, а его монархия входила в число сильнейших, наряду с английской и испанской. И, подобно двум своим соседям, Франция находилась на первом интенсивном этапе строительства современного государства.
Этот процесс стал тем более необходимым, когда на престол в 1519 г. взошёл император Карл V, окружив владения Валуа со всех сторон землями, подвластными Габсбургам. В результате между двумя державами до 1559 г. тянулась череда войн. Противостояние не приносило Франции особой выгоды, но хотя бы направляло воинственный пыл французской знати на внешнего противника. Мир грозил разжечь внутренний конфликт, поскольку королевскому
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.