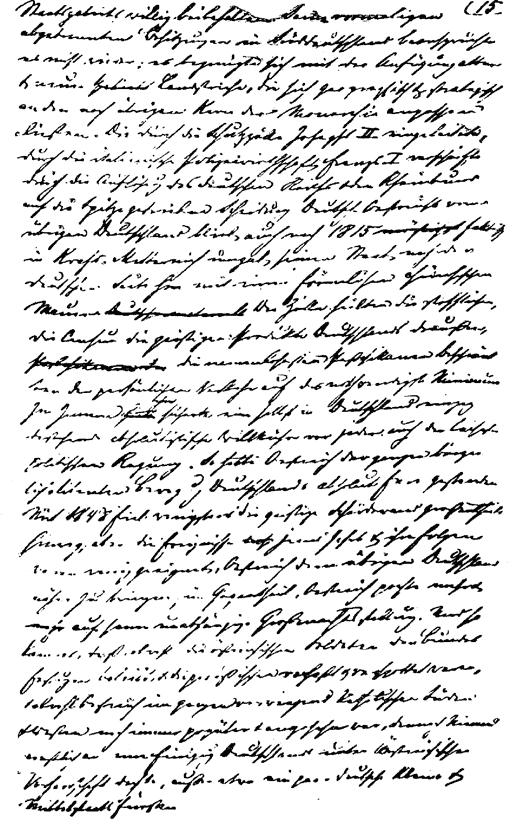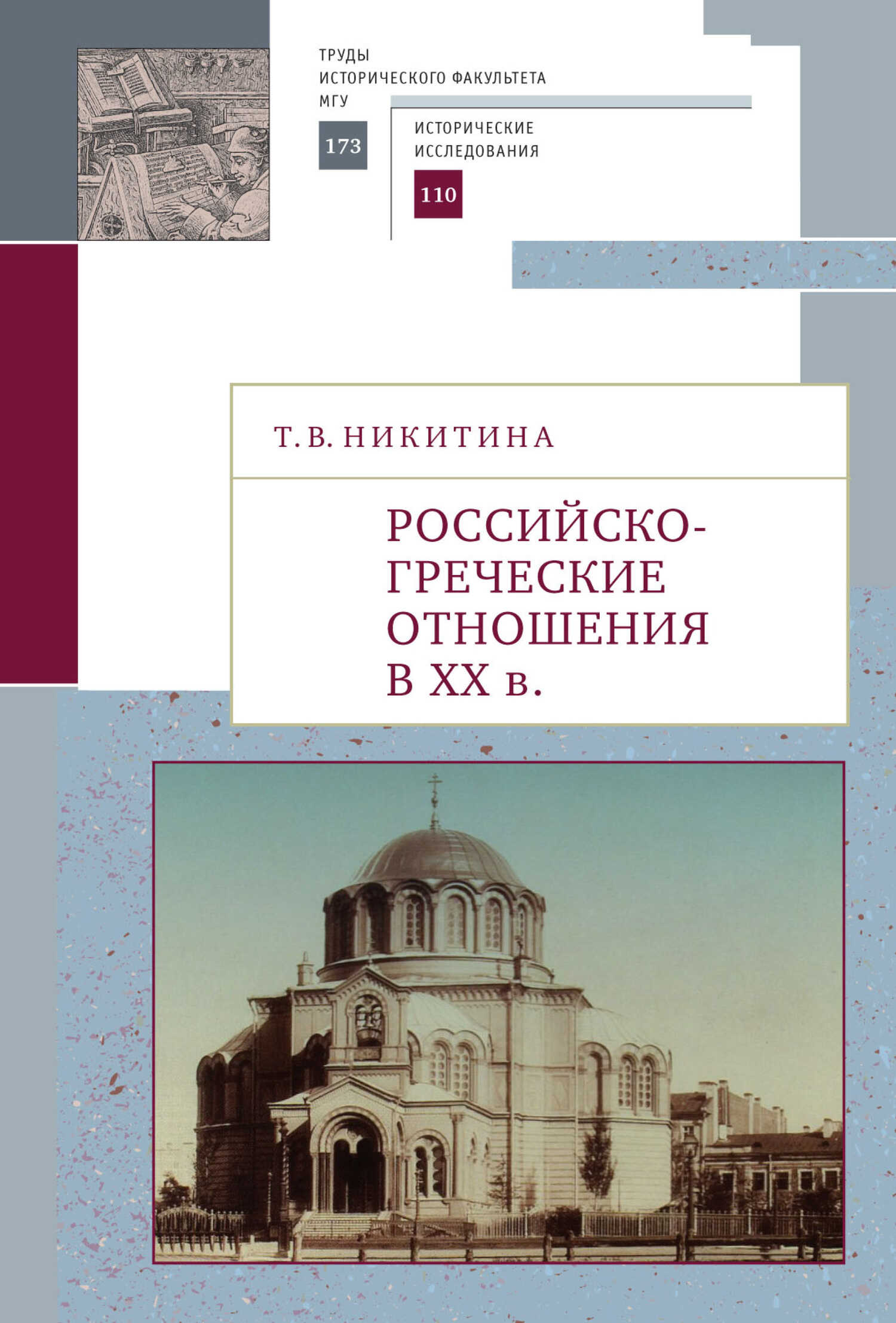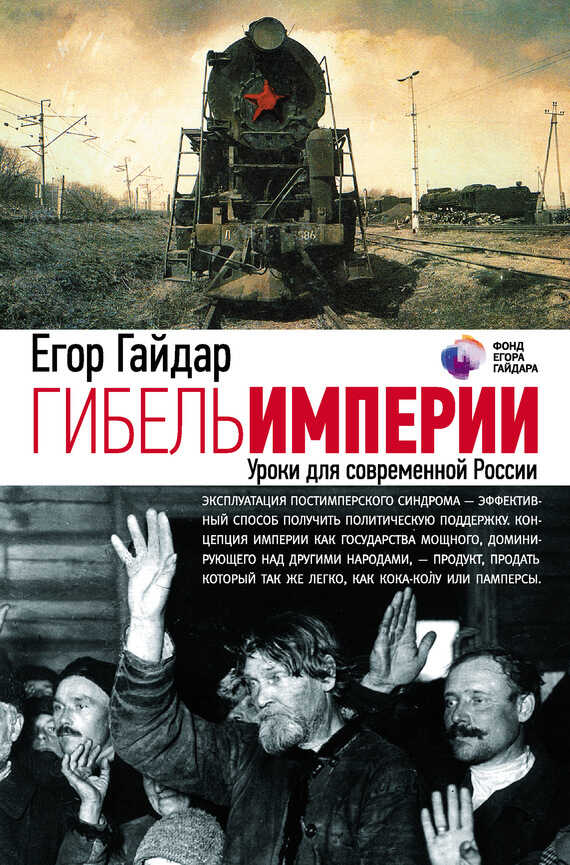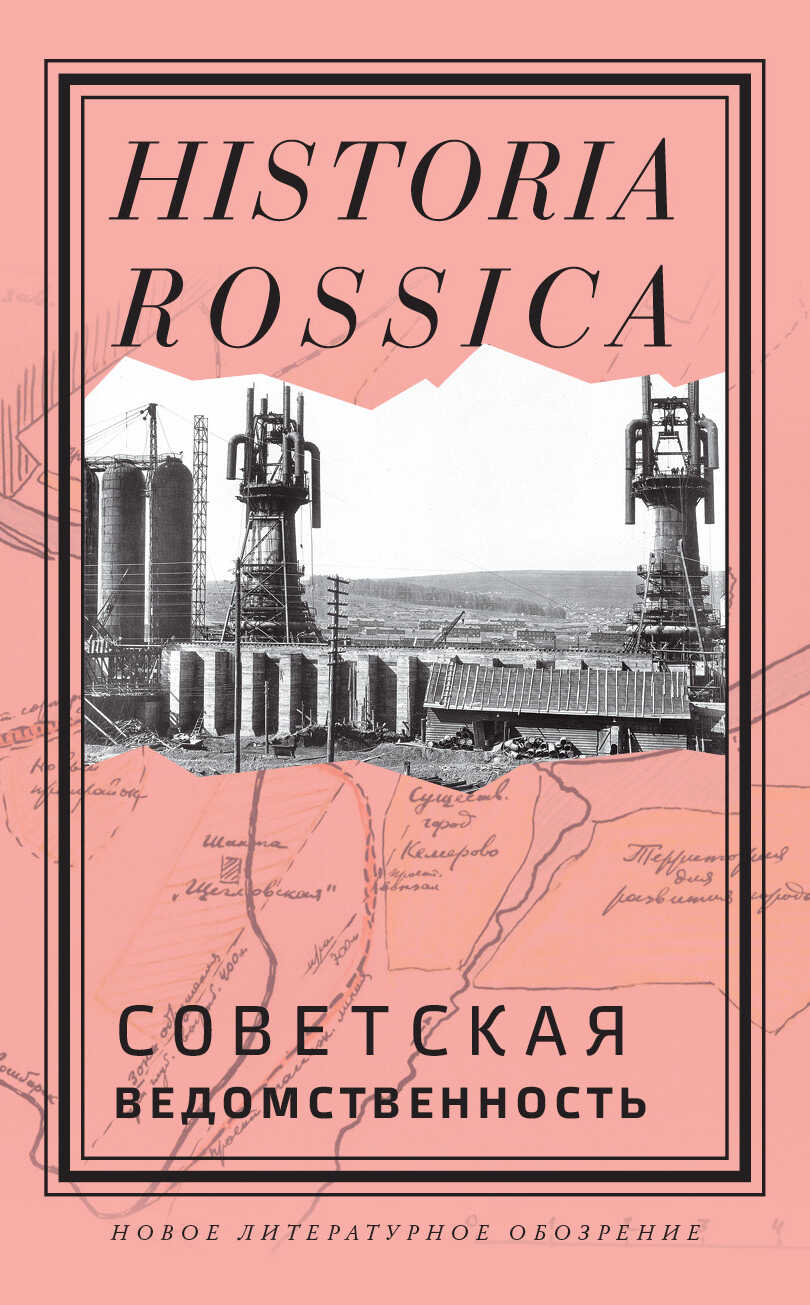Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм - Николай Анатольевич Власов Страница 34
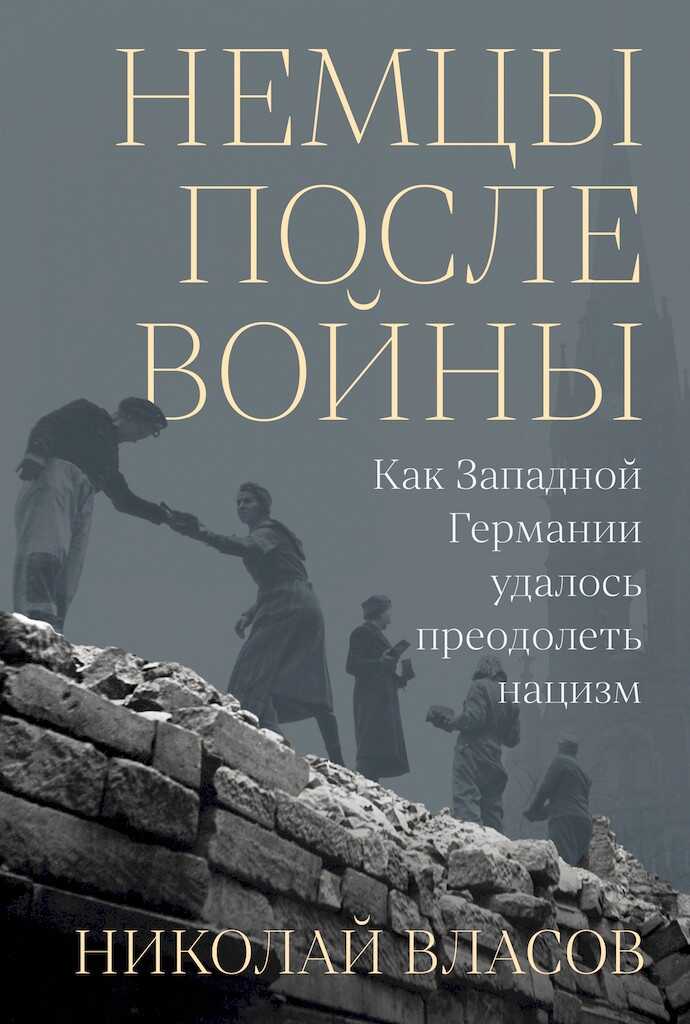
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Николай Анатольевич Власов
- Страниц: 72
- Добавлено: 2025-08-26 18:11:44
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм - Николай Анатольевич Власов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм - Николай Анатольевич Власов» бесплатно полную версию:Как случилось, что вроде бы цивилизованная нация за 30 лет развязала две мировые войны и докатилась до нацистского варварства? Смогут ли немцы исправиться, стать свободными, будут ли безопасны для соседей — или навеки обречены идти своим «особым путем», выбирать диктаторов, затевать конфликты? Такими вопросами задавались европейцы и американцы в середине 1940-х годов.
Многие считали приход Гитлера к власти и внешнюю агрессию со стороны Германии неизбежными, объясняли самой природой немцев, их национальным характером. Но Федеративная Республика Германия, построенная на обломках Третьего рейха, стала спокойным демократическим государством, безопасным и для своих граждан, и для соседей. Что стояло за этой метаморфозой? Как произошла трансформация целой нации? На эти вопросы отвечает в своей книге историк Николай Власов.
Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм - Николай Анатольевич Власов читать онлайн бесплатно
Стиг Дагерман в своих очерках описывал «атмосферу обиды на союзников, смешанную с самоуничижением, апатией, всеобщей склонностью к сравнению настоящего с прошлым, причем не в пользу первого»[75]. Распространялись представления о том, что победители ненавидят не только нацистов, но и немцев как народ. Симптоматично, что подобного рода высказывания можно было услышать не только от затаившихся нацистов, но и от противников Третьего рейха. Уолтер Дорн обеспокоенно писал в мае 1946 г. оккупационным властям: «После года интенсивной демилитаризации и денацификации, затронувшей все сферы жизни немцев, антидемократические и реакционные силы начинают вновь укрепляться. Возникают неонацистские, националистические и милитаристские настроения»[76]. Власти стали с тревогой констатировать появление мелких неонацистских групп. «Если нам и дальше будет светить демократическое солнце, у нас появится совсем коричневый загар», — прямо говорили некоторые западные немцы[77].
Если весной 1945 г. мирное население почти никак не сопротивлялось оккупации и относилось к победителям спокойно, то вскоре ситуация стала меняться. На предприятиях, подлежавших демонтажу, происходили стачки и митинги протеста. В июне 1946 г. половина западных немцев называла существующие экономические ограничения слишком жесткими, и доля таких людей росла. Своего пика недовольство достигло в первой половине 1947 г., когда «голодные стачки» проходили почти непрерывно. Уничтожение в Гамбурге тральщиков военно-морского флота, которые можно было бы легко переоборудовать в рыболовные суда и тем самым облегчить продовольственный кризис, трактовалось немцами вполне однозначно: нас хотят уморить голодом. В городе прошел полумиллионный митинг против политики победителей. «Раньше был нацистский террор, теперь террор демократический, разница невелика», — говорили в Дюссельдорфе[78]. «Население отчаивается все сильнее», — докладывали уездные власти Целле британской военной администрации в апреле 1947 г.[79] В мае 1947 г. бременские железнодорожники выдвинули категорическое требование о выделении дополнительных рационов — в противном случае они не смогут продолжать работу: «Выдаваемых продуктов и близко не хватает для того, чтобы обеспечить поддержание необходимых сил. Множатся случаи, когда служащие железной дороги прекращают работу из-за истощения»[80].
В марте 1947 г. рурские шахтеры объявили двухдневную стачку. Одним из главных их требований было улучшение продовольственного снабжения. В ответ оккупационные власти запретили протестные мероприятия. В Брауншвейге британских военнослужащих пытались забросать камнями; камни летели в автомобили и окна зданий, занятых оккупационной администрацией. В Вуппертале англичане, чтобы справиться с волнениями, вывели на улицу танки. Чем ниже падал уровень обеспечения самым необходимым, тем сильнее росли враждебность к оккупационным державам и размах протестных выступлений. Дело доходило до того, что люди, сотрудничавшие с победителями (к примеру, выдававшие им нацистских преступников), становились объектами ненависти, обвинений в коллаборационизме и травли со стороны своих сограждан — и такое случалось и впоследствии, в начале 1950-х.
Особенно тревожной выглядела ситуация с молодыми немцами. Виктор Голланч писал осенью 1946 г. из британской оккупационной зоны:
Настроение молодежи варьируется в диапазоне от растерянности, все еще сочетающейся у меньшинства с дружественным отношением к британцам, до горечи, цинизма и растущей враждебности к нам и нашим действиям. Настроение (пока) не пронацистское: скорее речь идет о нигилистическом презрении к нынешней власти и любой власти вообще… Они спрашивают, подразумевает ли демократия голодный паек, изгнание людей из домов и конфискацию их мебели, уничтожение верфей, закрытие заводов, лишение работы десятков тысяч человек. Я спрашиваю их о Нюрнберге и в лучшем случае слышу ответ: да, они там виновны, но и союзники не лучше: посмотрите на беженцев, больных, умирающих от голода, ограбленных; таких не тысячи, а миллионы. Многие открыто смеются над Нюрнбергом. Я не встретил ни одного человека, который отрицал бы вину нацистов; однако лишь немногие считали ее чем-то особенным, отличным от того, что делают все политики[81].
Британский публицист приходил к неутешительному выводу: битва за умы и сердца молодежи практически проиграна. В это же время одна американская журналистка так описывала настроения немецкой молодежи:
Нас уже однажды обманули. Если эта демократия, о которой мы так много слышим, и правда стоящая вещь, если она даст нам работу, еду, комфортное жилье, а главное безопасность, то мы ее поддержим. Но пока что мы подождем и посмотрим[82].
Если в январе 1946 г., по данным опросов, 15 процентов западных немцев пессимистически взирали на перспективы сотрудничества с победителями, то к весне 1947 г. этот показатель вырос до 70 процентов. Одновременно западные немцы без энтузиазма оценивали собственное будущее: в 1946 г. 40 процентов опрошенных заявляли, что возрождение экономики идет медленнее ожидаемого; сроки полного восстановления оценивали в среднем в три-четыре десятилетия.
Данные американских опросов также фиксировали рост ресентимента. Доля тех, кто считал нацизм «хорошей, но плохо реализованной идеей», выросла за период оккупации с 48 до 55 процентов, доля осуждавших антигитлеровский заговор 20 июля 1944 г. — с 11 до 24 процентов. Доля осуждавших нацизм как таковой по итогам голодной зимы сократилась с 40 до 30 процентов. Бытие определяло сознание: при выборе между свободой и экономической стабильностью первую выбирали 25 процентов опрошенных, вторую — 60 процентов. Иного в голодное время сложно было ожидать.
Идея демократии стремительно теряла привлекательность в глазах немцев. Само слово постепенно становилось ругательным. Издатель одного из журналов описывал в 1946 г. свои впечатления от поездок по стране и разговоров с людьми:
Для них демократия равна поражению, голоду, бедности, коррупции, бюрократии. Если в купе поезда нет стекол, если туалет забит, если поезд опаздывает, они говорят: посмотрите, вот демократия. Новый приказ военной администрации, сокращение рациона, регистрационная форма, удостоверение личности — все это в их глазах неотъемлемые черты демократии. Они все время занимаются историческими сравнениями. В старое время, говорят они, в старое время поездки были совсем другими; это было чудесное время; а теперь мы ездим демократически. Они оценивают политические процессы не с высоты птичьего полета, не через призму красивой теории, а в соответствии с фактами собственной повседневности. Когда им говорят, что они живут при демократии, они отвечают: голод, нехватка жиров, бюрократия, коррупция — это демократия. По всей
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.