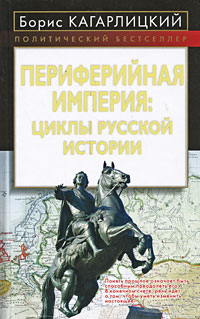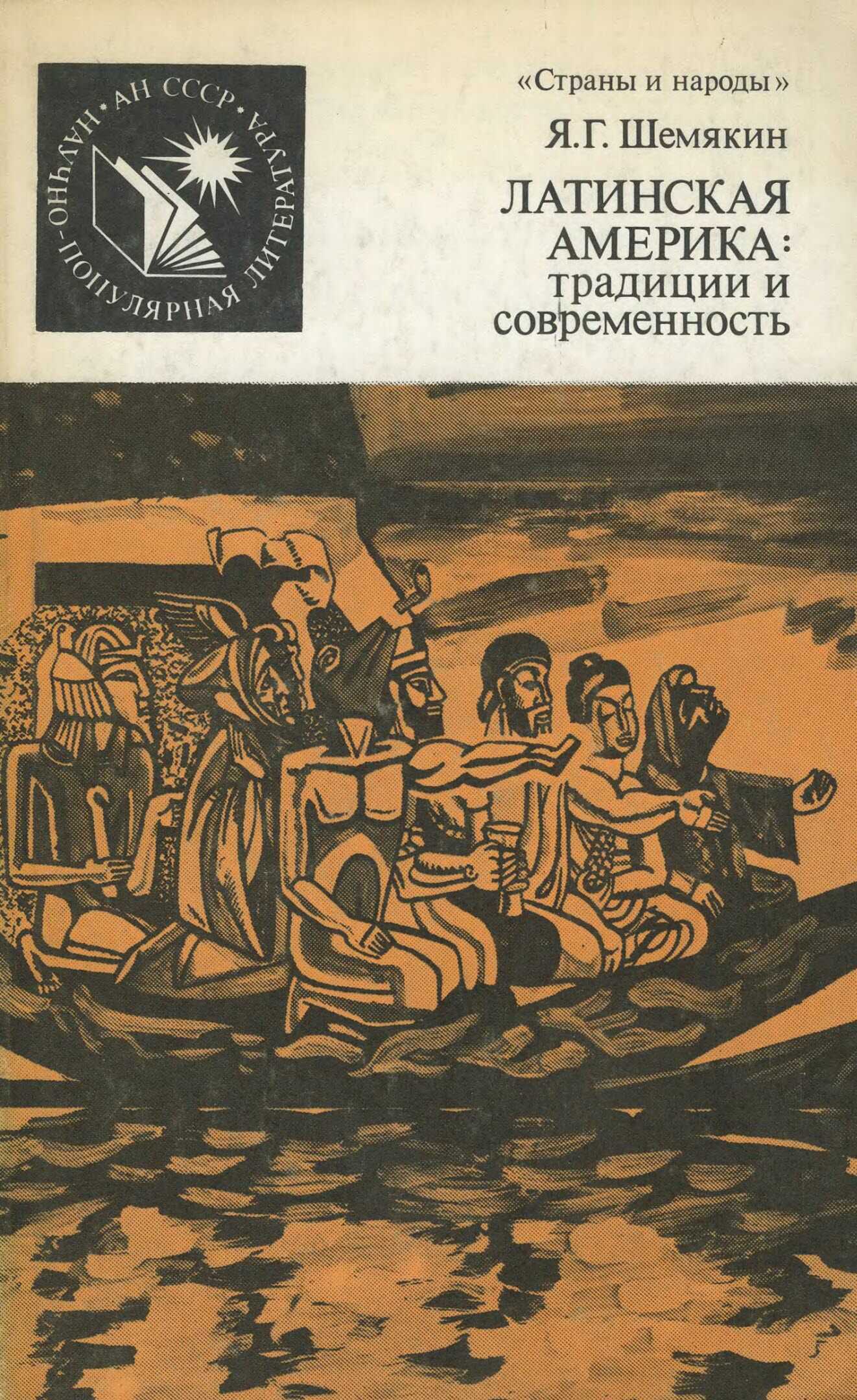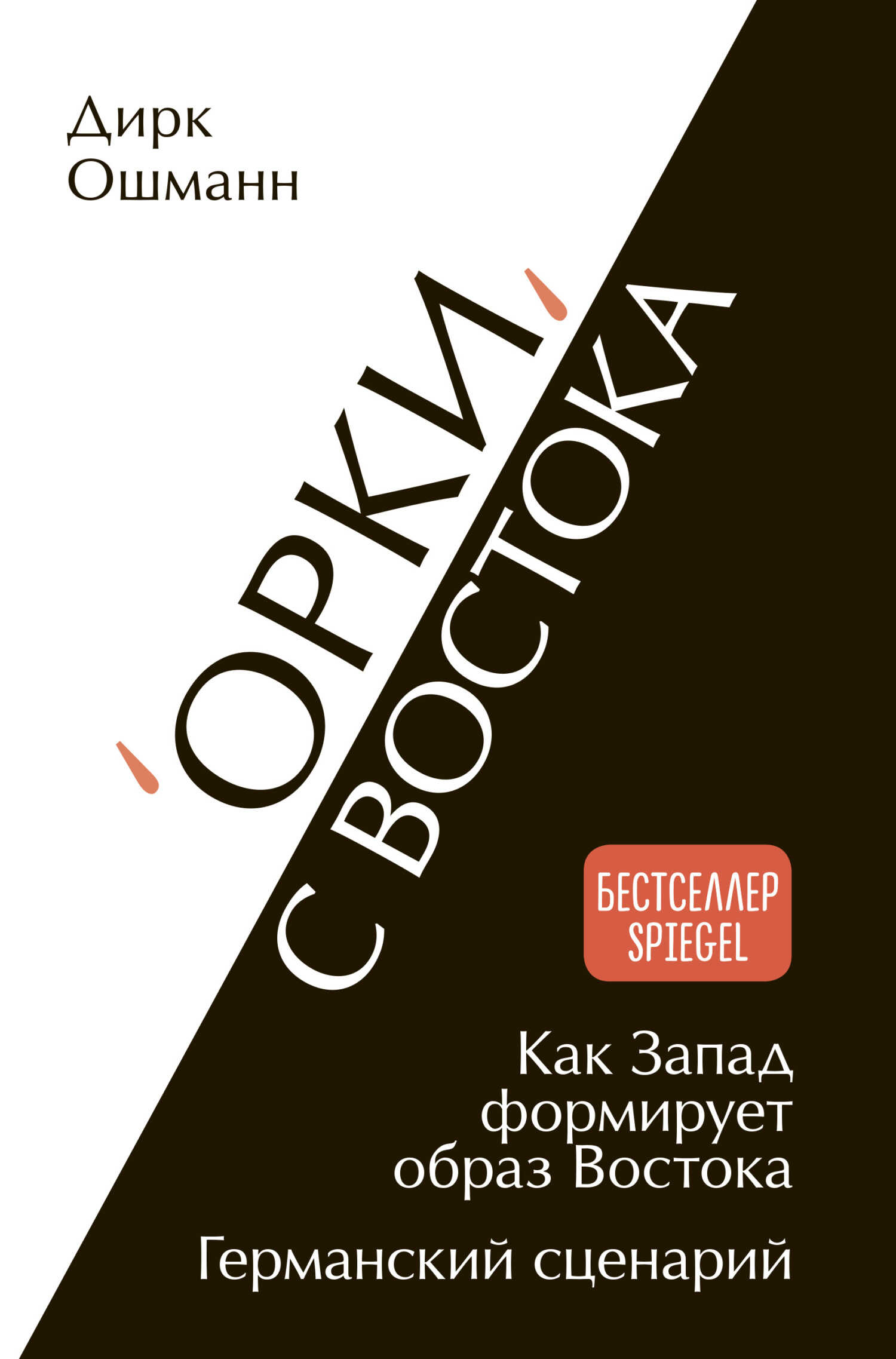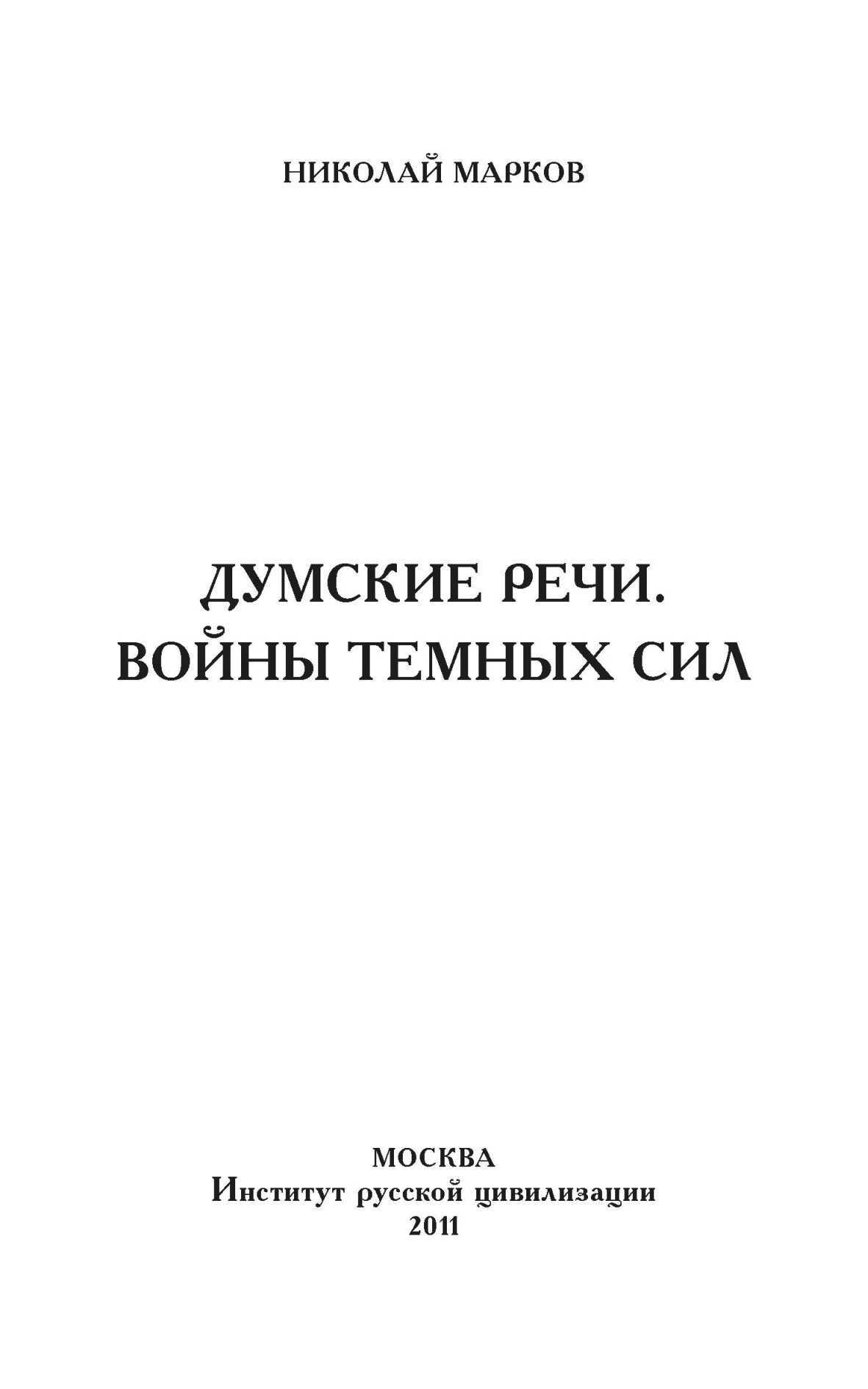Война, мир и книги - Валерий Валерьевич Фёдоров Страница 31
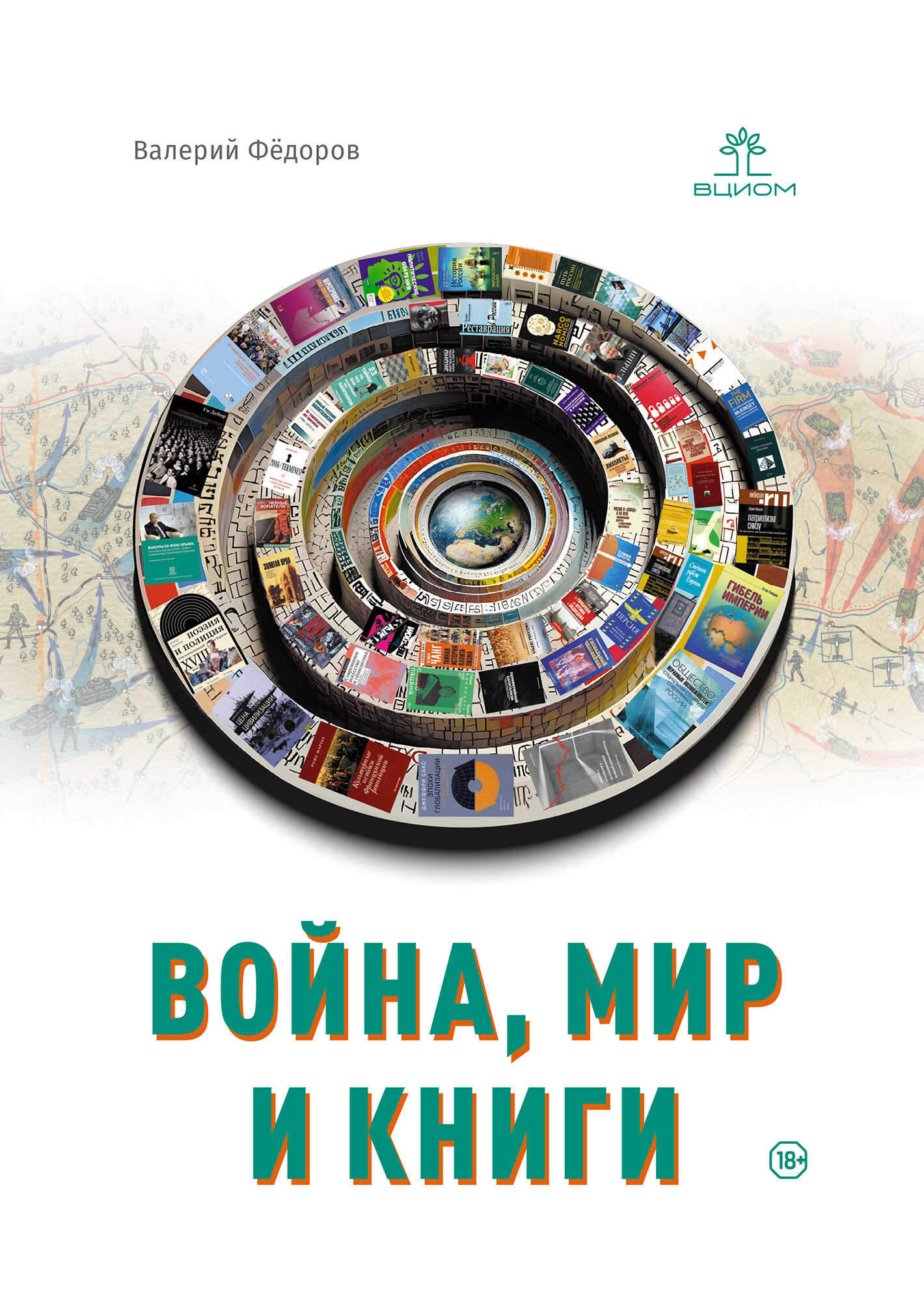
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Валерий Валерьевич Фёдоров
- Страниц: 132
- Добавлено: 2025-08-30 09:04:52
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Война, мир и книги - Валерий Валерьевич Фёдоров краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Война, мир и книги - Валерий Валерьевич Фёдоров» бесплатно полную версию:Возможности человеческого предвидения крайне ограничены. Даже для инсайдера, вращающегося в «узких кругах», масса информации редко прибавляет понимания: почему все происходит именно так, а не иначе? К чему все идет и чем закончится? Сам формат обычного человеческого восприятия – между делом, на бегу, за едой, на фоне разговора и т.д.,– мешает вникнуть в хитросплетения высокой политики, глобальной экономики, сложной демографии. Не способствует этому и прослушивание кратких комментариев экспертов в промежутке между прогнозом погоды и криминальной хроникой. Автор представляемой книги помогает разобраться в происходящем и надвигающемся особым способом: постепенно, кирпичик за кирпичиком, он строит картину сложного, мятущегося, борющегося мира, в котором нам довелось жить. Лучшие умы современности, подарившие читателям большое количество умных книг, помогают ему в этом.
В формате А4 PDF сохранён издательский макет.
Война, мир и книги - Валерий Валерьевич Фёдоров читать онлайн бесплатно
Конечно, это огромный шаг вперед по сравнению с сугубо апологетической версией тех же событий, изложенной Юмашевым в мемуарах Ельцина. В отличие от лучших творений, вышедших из-под пера участников тех событий (а мне таковыми представляются «Гибель империи» Егора Гайдара и «Время Березовского» Петра Авена), «Ход царем» дает весьма беглый и в высшей степени пристрастный взгляд на это время. А оно остается для России чрезвычайно важным прежде всего потому, что именно тогда в основном и сформировался весьма специфичный тип политической и экономической культуры и структуры, определяющий, пусть и с важными последующими модификациями, нашу нынешнюю жизнь. Итак, что же важного открывает нам Жегулев, чего мы не знали о главных событиях 1990-х годов? Наверное, самое главное-это новая интерпретация одного из ключевых политических понятий того времени-«Семья». Семьей с большой буквы называли окружение дряхлеющего президента Ельцина, не занимавшее государственных постов, но скрытым образом, за счет родственных, финансовых и квазикриминальных рычагов контролировавших работу правительства и определявших как ключевые кадровые назначения, так и важнейшие решения федеральных властей.
Тезис, который защищает Жегулев, весьма неожиданный: никакой «Семьи», по сути, не было и быть не могло, так как Ельцин в принципе не терпел никаких вмешательств своих родственников в политику и держал всех их на дистанции. Максимум, чего им удавалось добиться, – это довести до него некую информацию или организовать его встречи с другими людьми. Только те, кто знал, как и когда президент готов принять неожиданную и даже неприятную для себя информацию, могли реально влиять на его политику. А знали прежде всего дочь президента Татьяна Дьяченко и ее будущий муж, тогда – просто младший друг и соратник Ельцина журналист Юмашев. Другим способом повлиять на решения президента было добиться от него согласия встретиться с определенными людьми. Этим искусством также в высшей степени овладели Дьяченко и Юмашев, благодаря чему не раз круто меняли важнейшие решения Ельцина. Вот такая «Семья, которой не было», но которая все-таки действовала – как показывает книга, порой весьма изобретательно и эффективно.
Само понятие «Семья», напоминает Жегулев, было изобретено и растиражировано Владимиром Гусинским и Евгением Киселевым – владельцем телекомпании «НТВ» и ее главным информационным киллером – в ситуации острой борьбы в 1999 г. Если Ельцин и его приближенные тогда поставили на Владимира Путина как «преемника», то Гусинский заключил союз с экс-премьером Евгением Примаковым. Их целью было создать удобный для критики и диффамации образ нелегитимной группы, узурпировавшей власть и правящей страной из-за спины немощного президента. Свои цели есть и у Жегулева, который, отнюдь не ограничиваясь изучением ельцинской семьи, завершает книгу рассказом о «семье Путина». Ее, по мнению автора, составляют не женщины и дети, а старые петербургские друзья президента, сегодня занявшие крупные посты и скопившие впечатляющие состояния. Они, утверждает Жегулев, успешно манипулируют Путиным, играя на его страхах и слабостях и прикрывая его в ситуациях, когда он по каким-то причинам не решается действовать публично. Итак, два президента, оба – «с семьей, но без семьи»…
Что же за парадокс такой? Зачем и почему все говорят о семьях, если предметный анализ окружения Ельцина и Путина и присущих двум лидерам способов принятия решений обнаруживает самое минимальное влияние на них со стороны ближних и дальних родственников? Этот вопрос в книге даже не поставлен. Выскажу осторожное предположение: разочаровавшись во всех социальных институтах советской поры и не создав новых, мы все свои упования ограничили простейшим атомом общественного устройства – семьей. Именно на нее мы надеемся, в ней ищем поддержку, ее защищаем – и ради нее готовы многим жертвовать. Деградация и распад сложных форм социальности стимулируют повсеместную экспансию кровнородственных отношений – как в экономике, так и в политике, и в культуре. И хотя ни Ельцин, ни Путин «семейными» политиками никогда не были, общественное мнение приписывает им наличие политических «семей», поскольку ни в какие более высокие мотивы и механизмы их действий не верит. «Семейность» в экономике и политике, реальная и мнимая, может стать интересным объектом исследования, а книга Жегулева наряду с другими свидетельствами эпохи – сумбурным, ангажированным, но все-таки полезным историческим источником. А других современники важных событий, как известно, не производят…
От плебисцита – к выборам
Как и почему россияне голосовали на выборах 2011–2012 гг.
Под ред. Валерия Фёдорова
М.: Праксис, 2013
Выборы в Госдуму – 2011 и выборы президента России – 2012 стали во многом рубежными в современной политической истории нашей страны. «Президентство надежд» Дмитрия Медведева завершилось снизившимся результатом правящей партии на думских выборах и массовыми протестами, названными «белоленточными». Затем была острая борьба на выборах президента и тяжелая победа Владимира Путина, которую «несистемная» оппозиция отказалась признавать. В день инаугурации главы государства в Москве произошли крупные столкновения протестующих с полицией, завершившиеся серией арестов…
Параллельно менялось руководство внутриполитического блока Администрации Президента, были возвращены прямые выборы губернаторов, либерализована партийная система. «Несистемщики» объединились в Координационный совет, который, однако, просуществовал меньше года. Переизбранный на новый срок Владимир Путин начал «национализацию элит», усилил борьбу с коррупцией и одновременно – с «иноагентами», к которым были причислены некоммерческие организации, получающие любое иностранное финансирование. Был принят антиамериканский «закон Димы Яковлева», запрещена пропаганда однополых отношений, суды вынесли ряд приговоров «за оскорбление чувств верующих»…
Таких конфликтных и резонансных выборов с тех пор в нашей стране не бывало. Это бурное и противоречивое время с разных сторон проанализировали аналитики ВЦИОМ на материалах семи волн всероссийского панельного исследования, в котором приняли участие 1600 респондентов. Результатом их анализа и стала книга «От плебисцита – к выборам». Как полагали авторы, среди которых Леонтий Вызов, Владимир Петухов, Юлия Баскакова и др., электоральный цикл 2011–2012 гг. должен был «войти в историю России как переломный, знаменующий начало разворота от плебисцитарной модели голосования в качестве доминирующей к рационально-активистской». Многие обстоятельства того времени свидетельствовали в пользу такого прогноза.
Так, победа «Единой России» и Путина «потребовала совершенно других усилий, чем прежде, далась существенно более высокой ценой и была достигнута не благодаря консолидации значительного большинства российского общества, а, напротив, благодаря его поляризации и расколу». Путинское большинство – главная политическая реальность 2000–2008 гг. – сократилось в размерах, потеряло либеральное и отчасти левое крылья. Свой новый мандат Путин «получил от небогатого, не очень образованного и довольно сильно фрустрированного большинства, оставив продвинутое меньшинство, отказавшее ему
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.