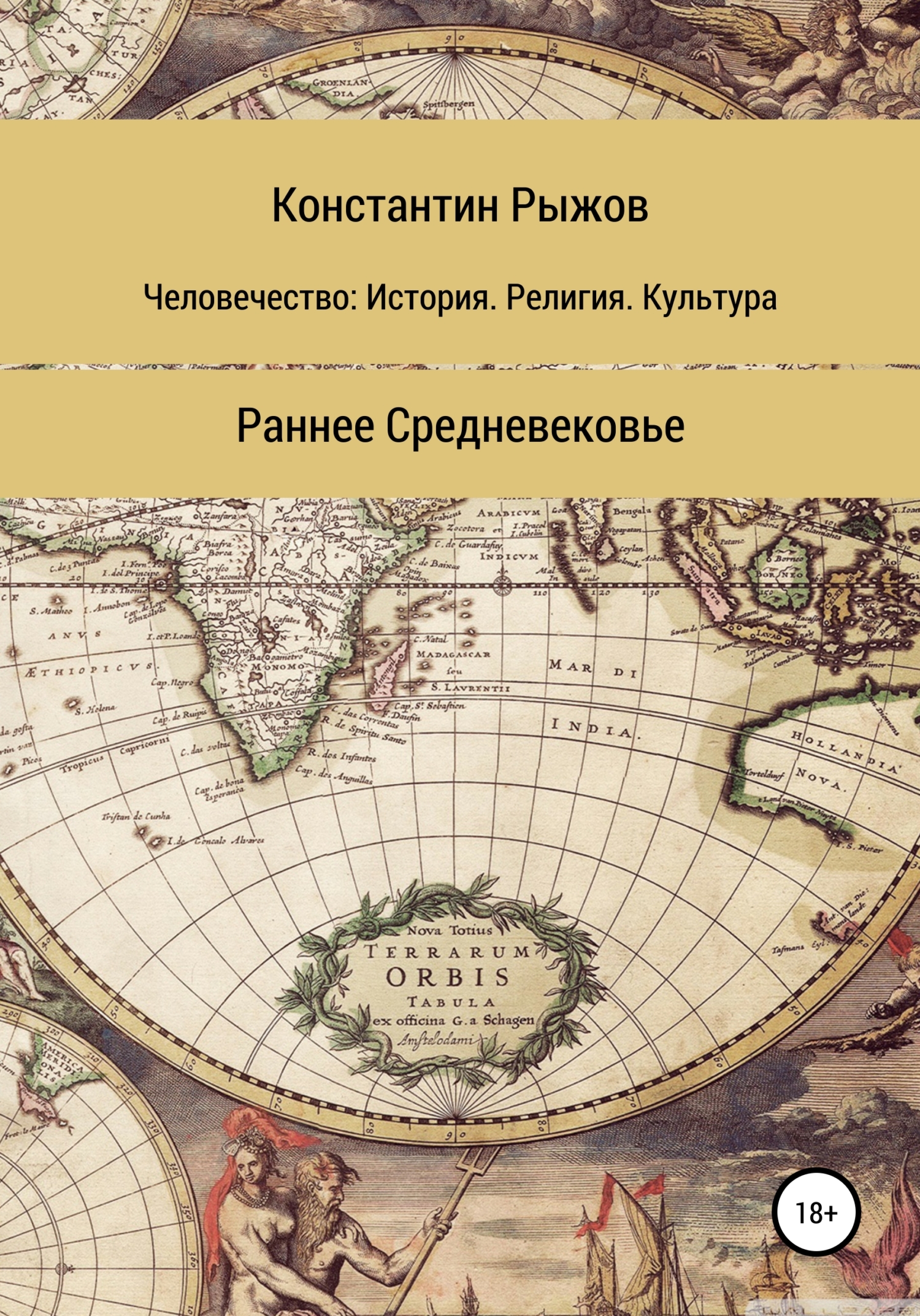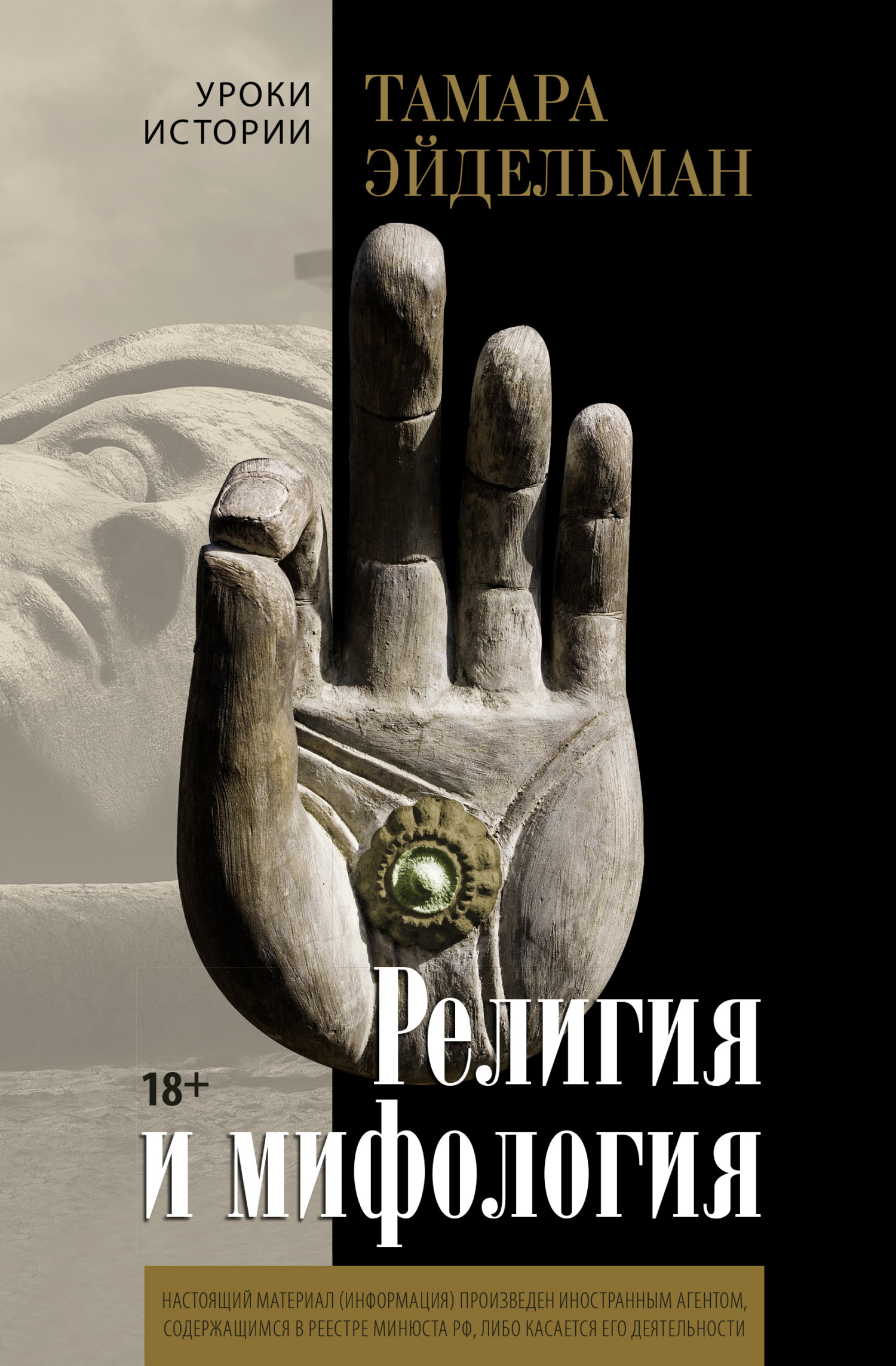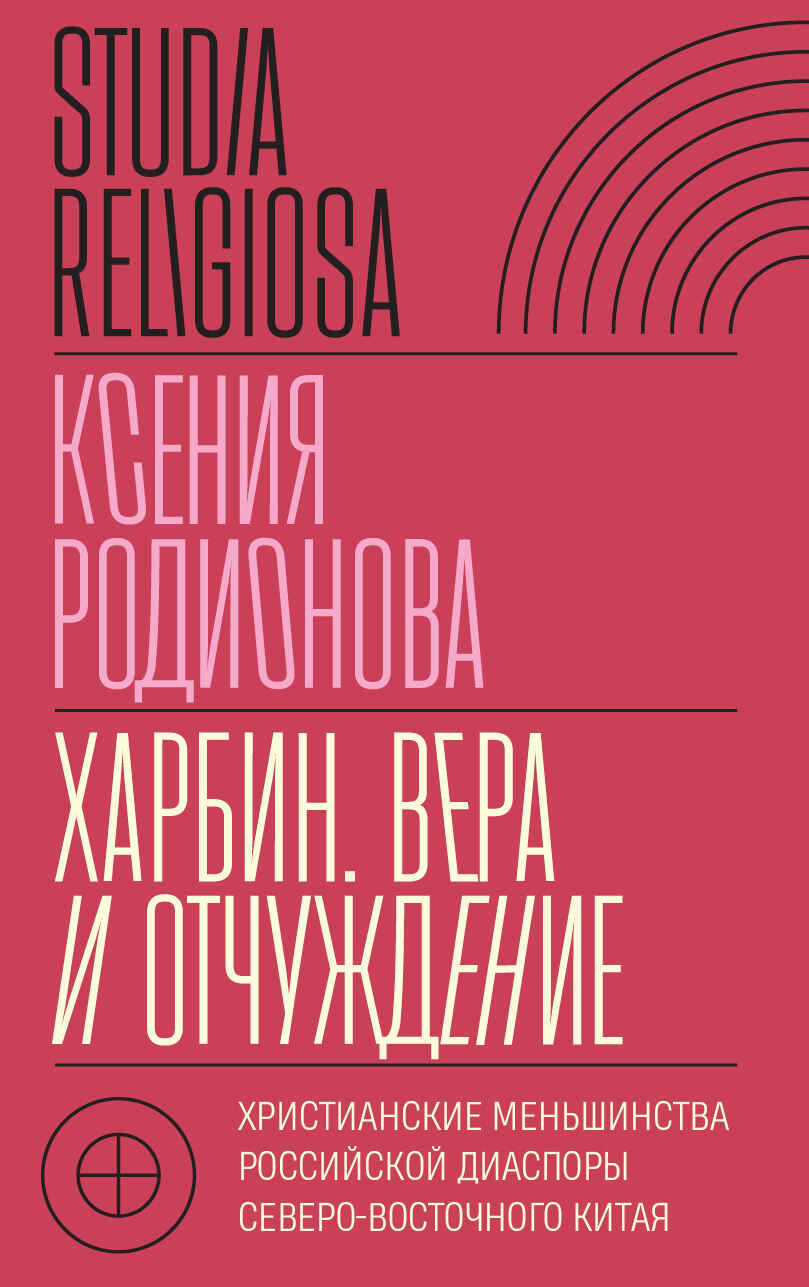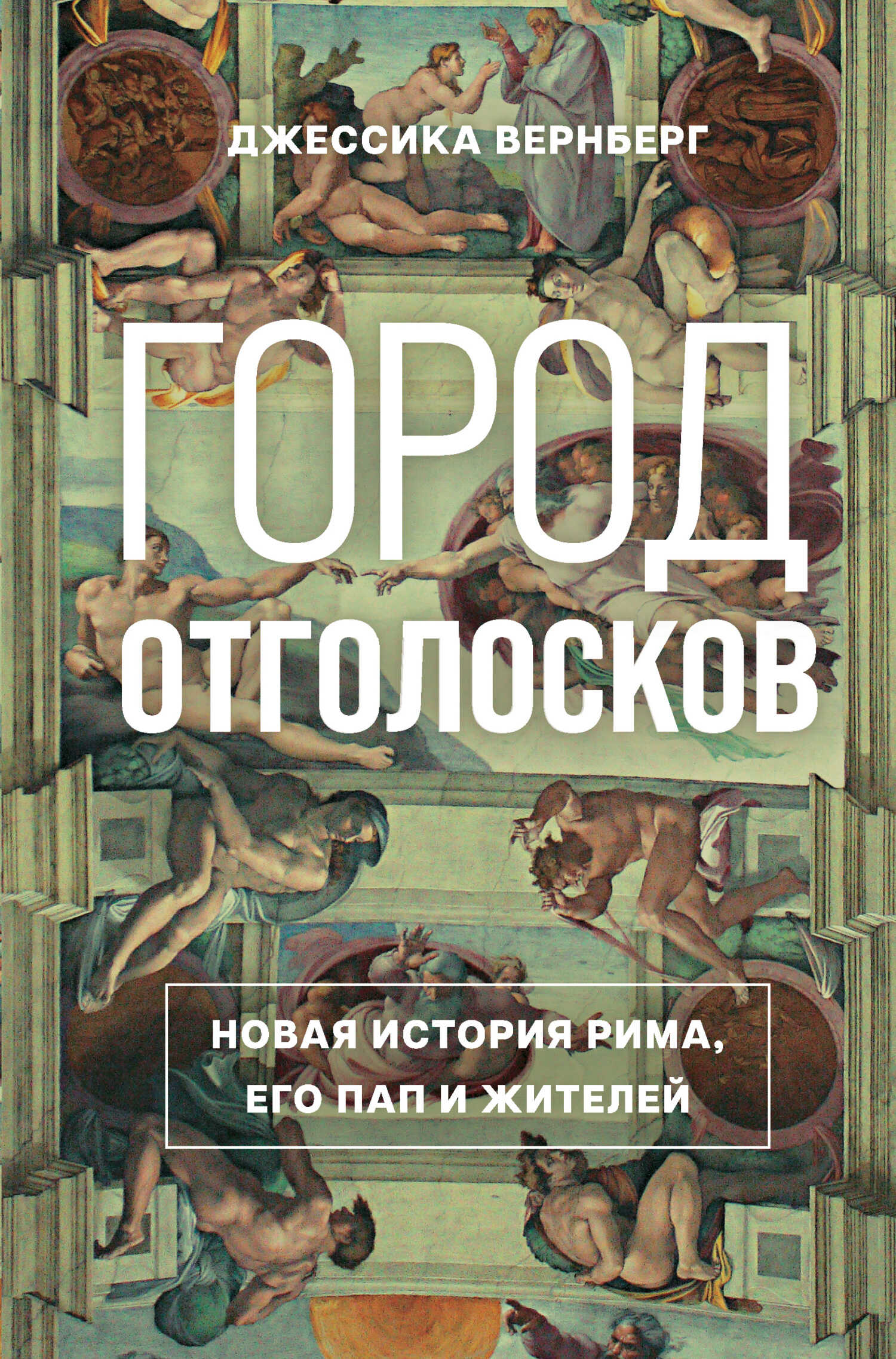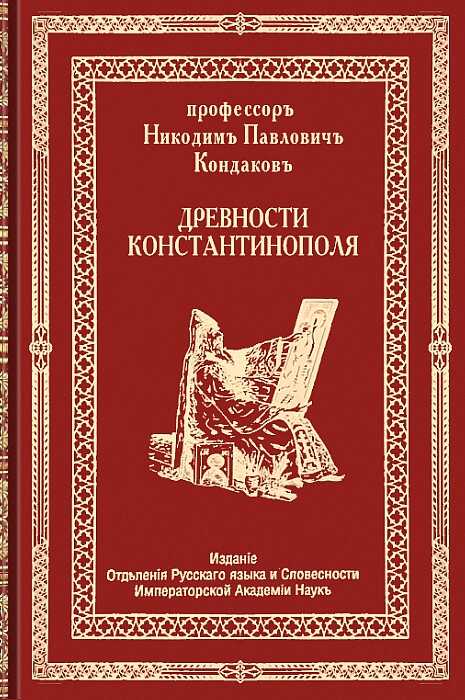Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко Страница 29
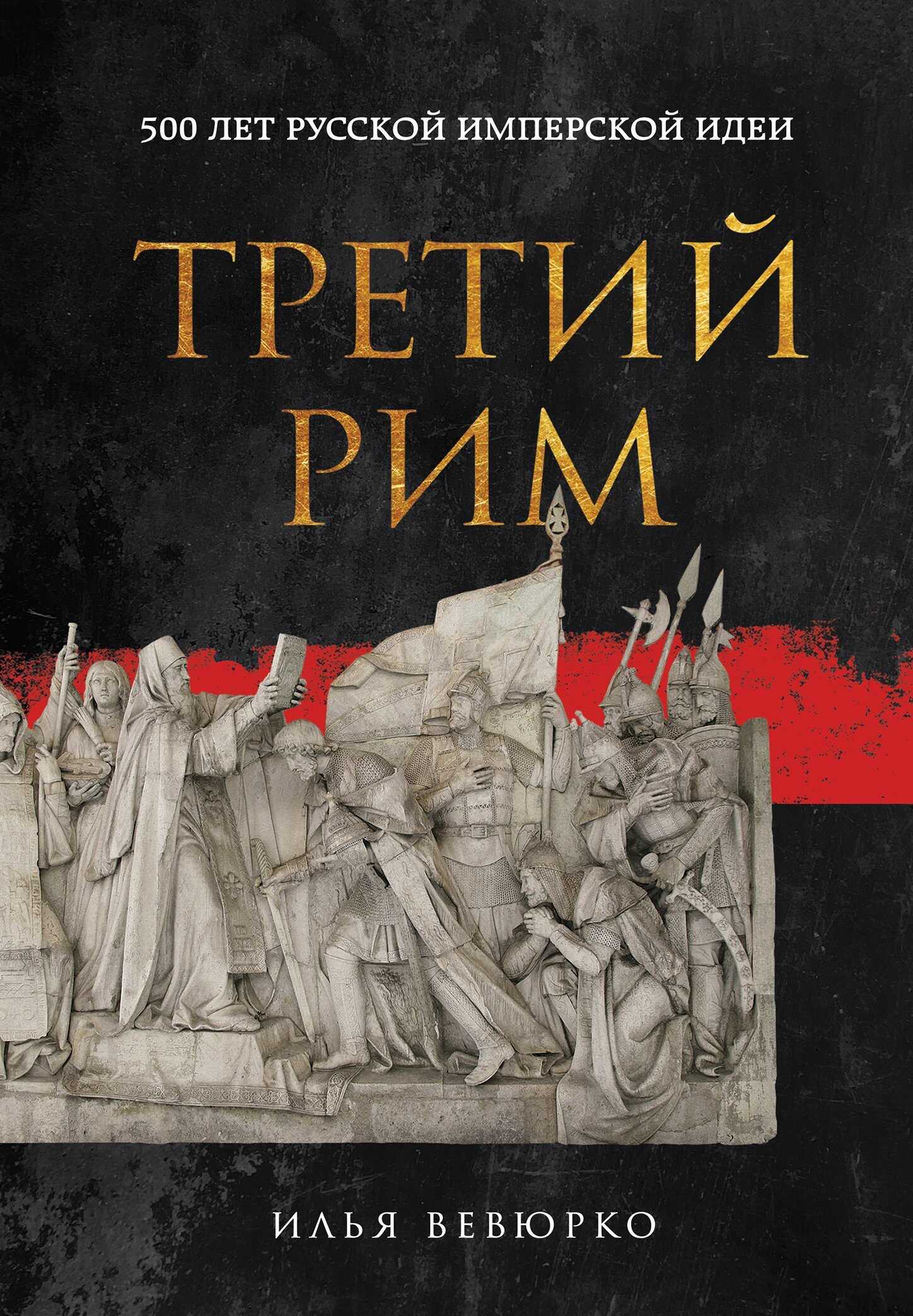
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Илья Сергеевич Вевюрко
- Страниц: 64
- Добавлено: 2025-05-05 23:20:56
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко» бесплатно полную версию:Книга именитого религиоведа и философа Ильи Вевюрко – взвешенное рассуждение о русском пути и церкви, о древнерусском рецепте величия и праве Руси претендовать на римское имперское наследие.
О том, как известный постулат старца Филофея «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать», касается нас сегодняшних.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко читать онлайн бесплатно
Петровские преобразования, вопреки нашим стереотипам, не доставили России того уровня самостоятельности сравнительно с ее геополитическим окружением, какой она имела в прошлом. Великий реформатор добился только того, чтобы страна не оказалась для других растущих держав Западного мира сырьевым придатком. «С точки зрения мир-системы в целом, усилия Петра можно рассматривать как попытку полного участия в мире-экономике, но в качестве полупериферийной, а не периферийной зоны» [71]. Выводы американского корифея экономической истории подтверждает и наш отечественный специалист по истории реформ. «Реально тот экономический эффект, который имеют в виду, говоря о необходимости выхода России к морям, достигнут не был: Россия не стала новой владычицей морей и не только не заняла в мировой торговле место Англии, но даже не приблизилась к этому. По существу она лишь открыла свои рынки для западных товаров» [72].
Чтобы отдать, однако, справедливость способностям и усердию представителей новой царской династии, нужно принять во внимание то, что между последними Рюриковичами на троне и первыми Романовыми пролегает период Смуты, когда, согласно «Утвержденной грамоте» Земского собора 1613 года, «великое Российское царство… яко море восколебася, и неистовыя глаголы, яко свирепыя волны, возшумеша, и неукротимо и ни направляемо». Слово «смута» в документах эпохи еще не является термином, каким оно станет в позднейшей историографии, но уже приближается к этому. Так, в анонимном (скорее всего, малороссийском или переведенном с польского языка) трактате начала XVII века «О причинах гибели царств», основанном на множестве исторических примеров, этим словом описывается состояние государства, родственное мятежу и междоусобице.
«Кикеро [Цицерон] мудрец написал: аще кто государством торговать хочет и корысти себе из того ищет, […] за тем последует смута и мятеж в государстве – коли начальники больши ся печалуются о корысти своей, нежели о доброе дело государьства всего. И с того опять дела корысти [прибыли] не бывает, но еще оболши виною есть к погибели государьством, коли думные бояре меж собою о чины и достоенства какие или о корысти бранятца, и за таковою их нелюбовью и межусобьем государство от смуты неволное есть».
Слова, приписанные Цицерону в трактате, находят себе параллель в послании, разосланном Иваном Грозным из Александровской слободы в 1565 году, перед учреждением опричнины: «Бояре и все приказные люди его государства людем многие убытки делали и казны его государьские тощили, а прибытков его казне государьской никоторой не прибавляли… и о государе и о его государьстве и о всем православном християнстве не хотя радети, и от недругов его… не хотя крестианства обороняти, наипаче же крестьяном насилие чинити, и сами от службы учали удалятися… И царь и государь великий князь, от великия жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государство и поехал, где вселитися, идеже его государя Бог наставит».
Смута с исторической точки зрения была тем срывом, который иногда называют даже первой в истории России гражданской войной. «Московское государство… вступило в тяжелый период открытого междоусобия, в котором друг на друга встали уже не претенденты на трон, а различные части единого общества, поставленные одна против другой всем предшествующим ходом государственной жизни» [73]. Согласно Василию Осиповичу Ключевскому, «отличительной особенностью Смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества, и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лествице чинов. На вершине этой лествицы стояло боярство; оно и начало Смуту» [74]. Соответственно, внизу находился народ – тот, что еще «безмолвствует» в финале пушкинской трагедии «Борис Годунов», глубокого и емкого художественного текста, посвященного первому этапу Смуты, пролегавшему между двумя актами детоубийства [75]. В безмолвии этом поэт выразил ужас и осознание происходящего, а следовательно, семя будущего действия – народного движения к освобождению столицы «от польских и литовских ратных людей и от своих русских воров», как говорили современники. «Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные: они и спасли общество» [76].
С внутренней же, древнерусской точки зрения Смута была классическим библейским всенародным наказанием за грехи, в ходе которого невинные жертвы получают мученические венцы, а согрешающие приводятся в чувство. Внешних врагов рассматривали при этом только как дополнительный фактор. «Убо конечно увидеша литовския люди неустроение в Руси и междоусобное смятение и брань, – пишет автор «Хронографа» 1617 года, – и сего ради вси устремишася на Русьскую землю». Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря, в своем рассказе об осаде обители в 1608–1610 годы пишет: «Сие же гневобыстрое наказание от Бога бысть нам за премногиа и тмочисленныя грехи нашя, понеже Господь многажды наказуя и отвращаа нас от злоб наших, и не послушахом, ниже отвратихомся от путей наших лукавых, но в путь Каинов ходихом и в след волхва Валама». Патриарх Гермоген, вполне рационально усматривая политическую причину Смуты в пресечении царствующей династии, не забывает указать и на духовную природу развернувшихся бедственных событий: «А за наши грехи царского их корени Московскому великому государству наследник не остася» (Грамота Сигизмунду).
Сень над ракой царевича Димитрия в Архангельском соборе Московского Кремля. Фото автора
Готовность русских людей того времени к общенародному покаянию говорит о развитом чувстве солидарности, а также о принципиальном сопряжении в самовосприятии двух, казалось бы, несовместимых сторон: знания о своем избранничестве и видения своего несовершенства. Тот же инок Авраамий, оплакивая судьбу Москвы, широким поэтическим жестом связывает обе эти стороны на фоне прецедентов из всемирной истории. Для нас его текст примечателен еще и представлением русской столицы как нового Рима. «Не токмо крепкими и высокими стенами, но и многими крепкими оружиеносцы, и храбрыми ратоборцы и премудрыми мужи огражден сый, паче же святыми церквами и многоцeлебными мощми святых цвeтяше… и многонародным множеством и превеликим пространством, не токмо в Росии, но и во многих ближних и далних государствах
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.