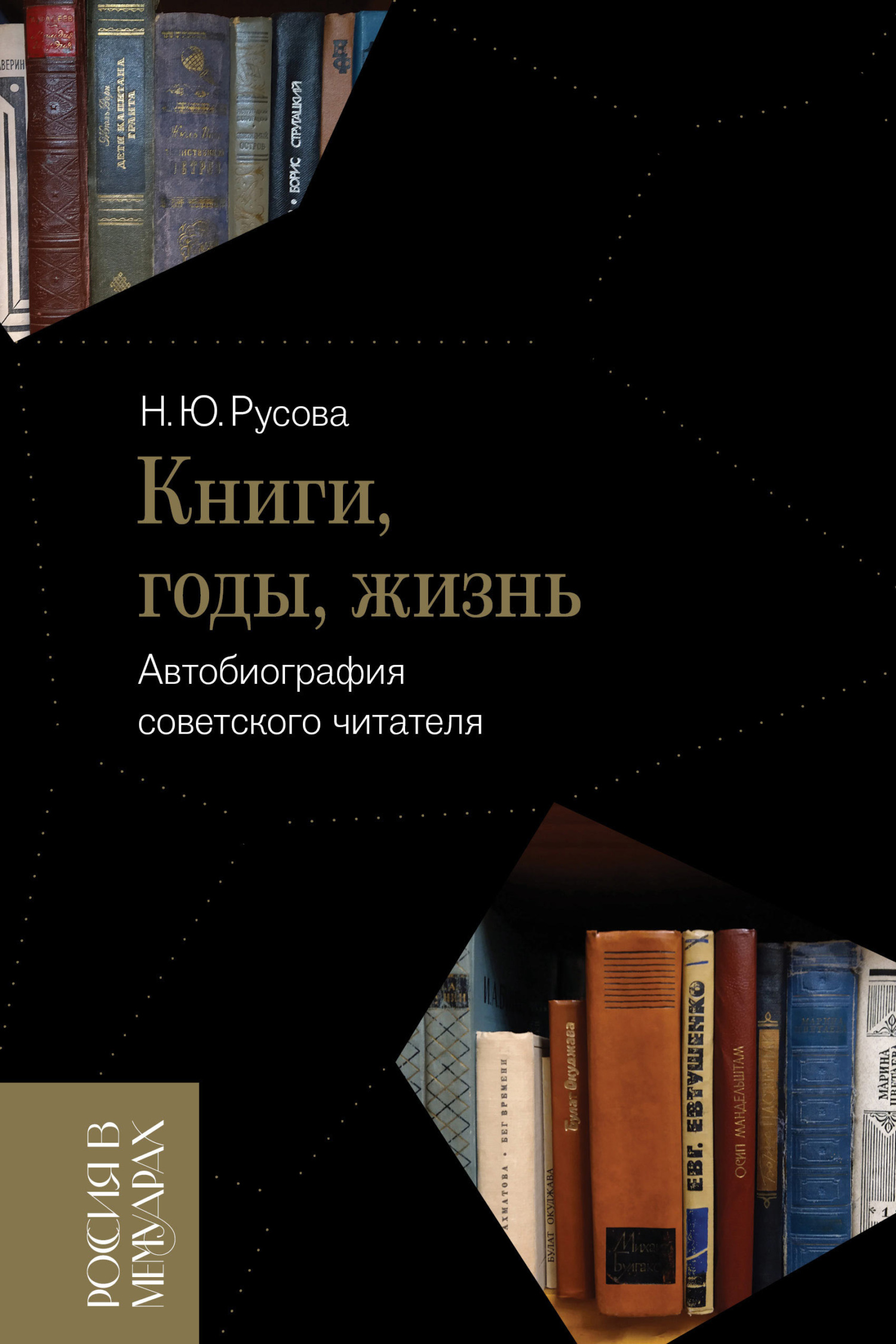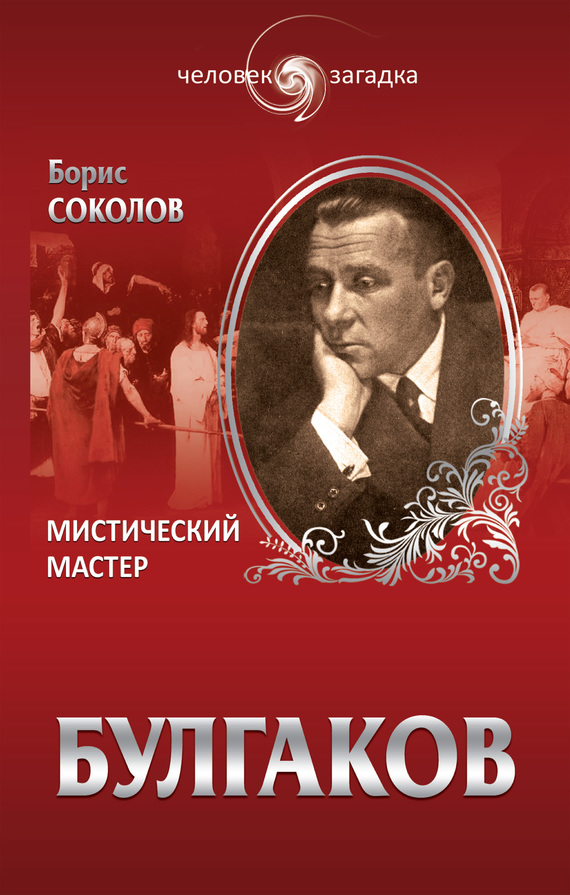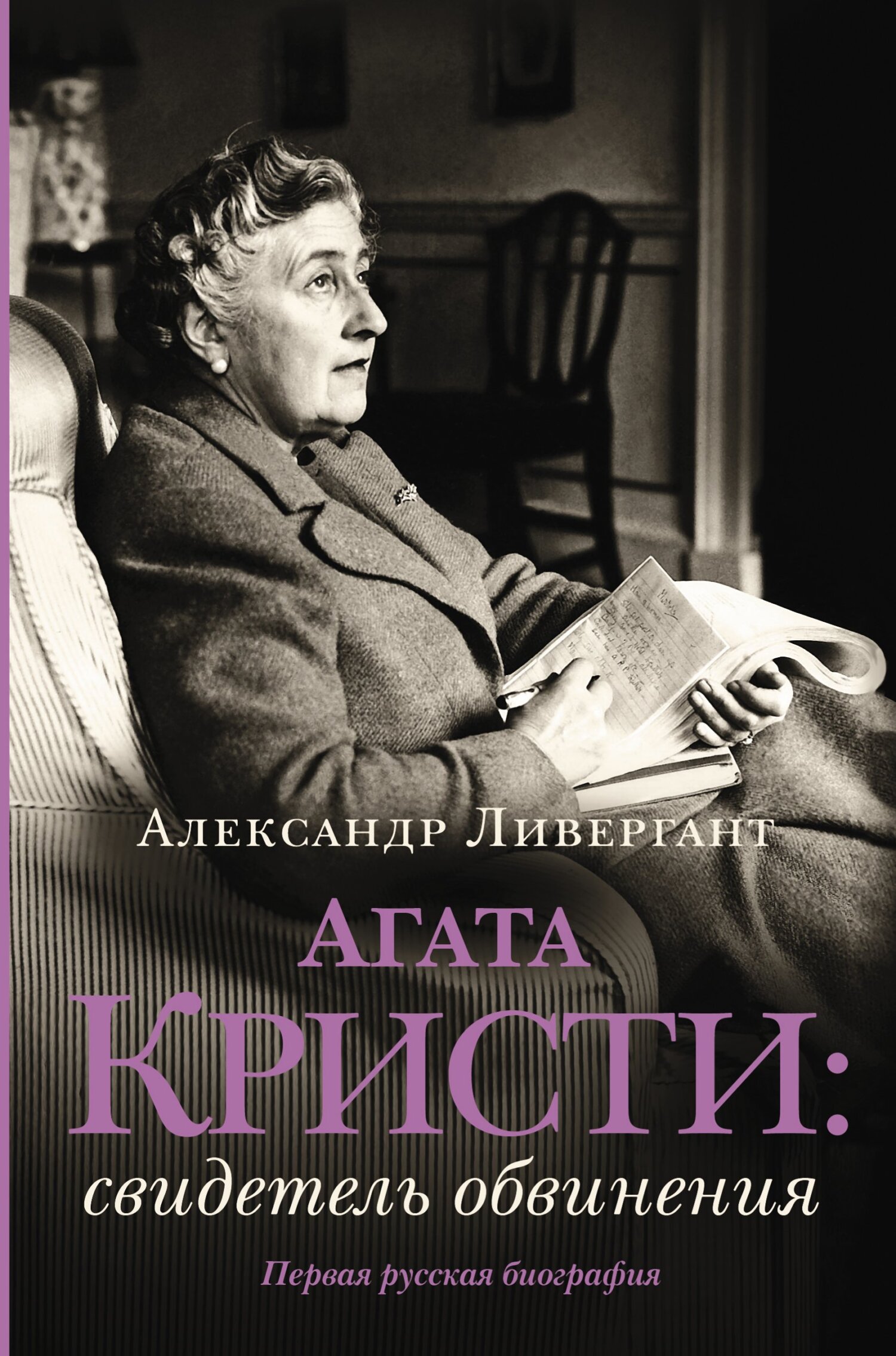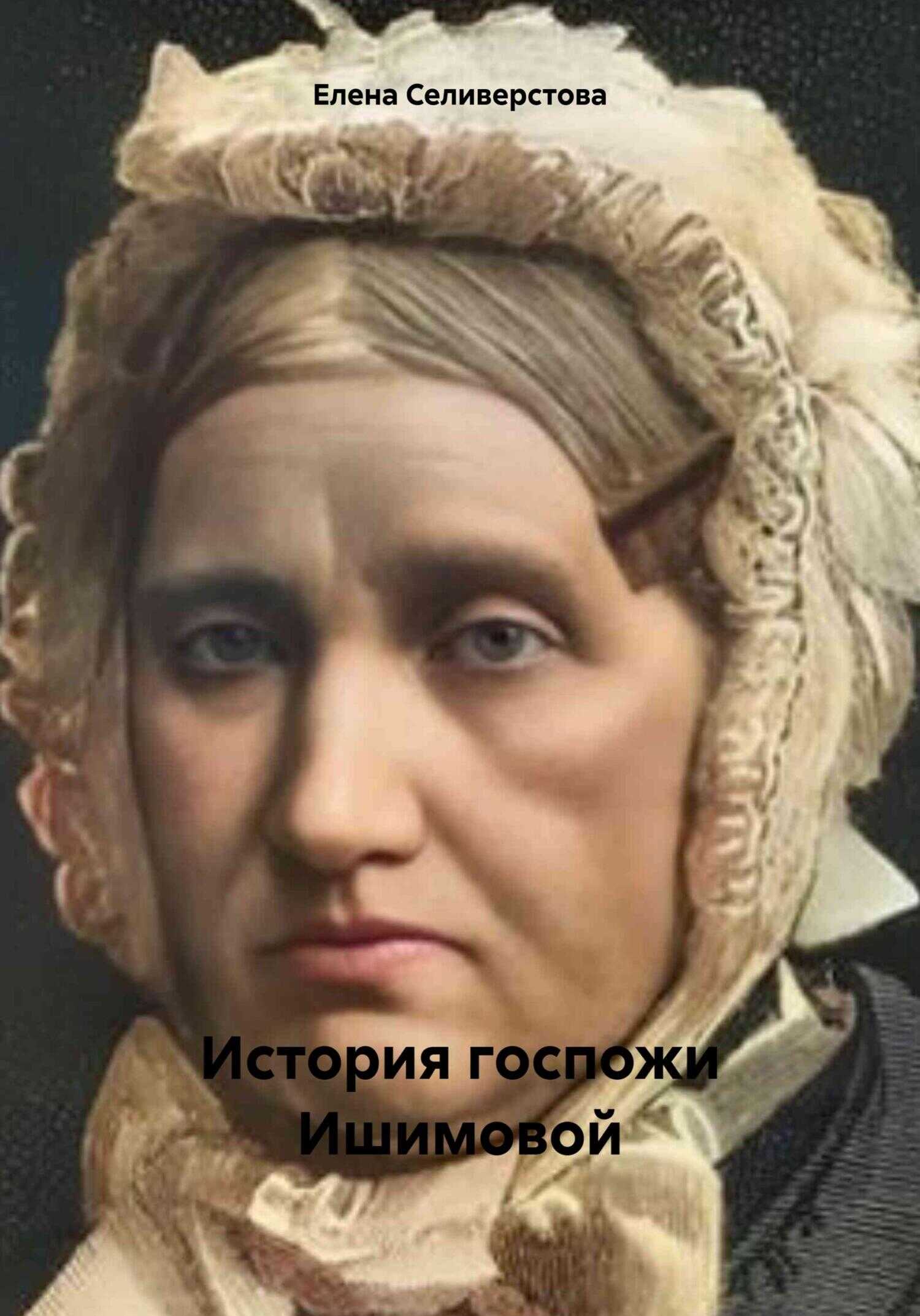Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко Страница 24

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Владимир Петрович Купченко
- Страниц: 48
- Добавлено: 2024-05-29 18:03:23
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко» бесплатно полную версию:«Сборник научных трудов подготовлен на основе материалов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. А. Волошина (Коктебель, 1977) — поэта, художника, переводчика и критика, одного из известных представителей русской культуры начала XX века. В его произведениях отражается ход русской и мировой истории, воссоздаются словом и кистью картины природы Восточного Крыма.
В материалах сборника подводятся итоги научных исследований. В статьях освещены важнейшие проблемы и особенности поэзии М. Волошина, киммерийская (крымская) тема в его произведениях, многогранные связи с представителями русской литературы разных поколений (Ф. Тютчев, А. Белый и др.), отношение М. Волошина к естественным наукам, состав личной библиотеки поэта и др.
Сборник рассчитан на читателей, интересующихся русской культурой начала XX века и становлением советского искусства».
Содержание:
В. А. Мануйлов. Максимилиан Волошин — поэт, мыслитель, художник
Л. А. Евстигнеева. Прозревая будущее… (М. А. Волошин и революция 1905—1907 гг.)
Е. М. Сахарова. Поэзия и революция. (Тема революции в творчестве М. А. Волошина советского периода)
А. В. Десницкая. Киммерийская тема в поэтическом творчестве М. А. Волошина
Е. В. Завадская. Поэтика киммерийского пейзажа в акварелях М. А. Волошина. (Отзвуки культуры Востока)
Ал. Горловский. Тютчев и Волошин
С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. Максимилиан Волошин и Андрей Белый
С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. М. Волошин и А. Ремизов
В. П. Купченко. О некоторых проблемах изучения жизни и творчества М. Волошина
В. П. Купченко. Библиотека М. А. Волошина
В. И. Цветков. М. А. Волошин и естественные науки
Указатель имён
Указатель произведений М. А. Волошина
Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко читать онлайн бесплатно
Много общего в панславизме Тютчева и Волошина, испытавших немалое влияние западной культуры. Однако именно жизнь на Западе усилила их панславистские настроения. И для Тютчева, и для Волошина именно с Западом были связаны представления о буржуа, именно там предстало Тютчеву омерзительное мещанское бюргерство, которого поэт еще не мог, в силу исторических причин, видеть у себя на родине.
Вот откуда взялось странное по своей логике противопоставление страны и …социального, явления: там бюргерство, здесь — патриархальное крестьянство. Знание разных социальных классов в разных нациях, многократно усиленное, по-видимому, ностальгией, привело Тютчева к ложному представлению, будто истинная нравственность — только в России. Отсюда был один шаг и до вывода, что высокое предназначение России состоит в том, чтобы, объединив вокруг себя славянские народы, спасти все человечество от нравственного распада.
Волошин, как и Тютчев, соотносил именно с западной буржуазией все ненавистные ему черты. Более того, сама русская буржуазия представлялась ему явлением, заимствованным с Запада. Подобно Тютчеву, Волошин усматривал великое предназначение России не в национальной обособленности, как полагали славянофилы, а в сопряжении собой Востока и Запада, в спасении собой общечеловеческой культуры от растления: «Пойми великое предназначенье Славянством затаенного огня: В нем брезжит солнце завтрашнего дня, И крест его — всемирное служенье» (254). В этом было много общего с блоковскими «Скифами».
V
В мироощущении Волошина и Тютчева слишком велик романтический и эмоциональный момент. Может быть, поэтому в их творчестве так много взаимоисключающих утверждений, может быть, поэтому в их образах и неустойчивость и зыбкость. Л. Черепнин отмечает неустойчивость терминологии в стихах и статьях Тютчева[132]. Разин у Волошина предстает то демонической фигурой, наряду с Гришкой Отрепьевым, то народным мстителем, ищущим справедливости; Петр I — то великим преобразователем, то кровавым палачом.
Эта «зыбкость», известная неопределенность образа представляется любопытным элементом родства поэтики Тютчева и Волошина, рождающим особую многомерность их поэтических образов. Н. Берковский отмечал, что Тютчев видел вещи двояко, во всей широте их возможностей: «Метафора у Тютчева готова развернуть все силы в любом направлении… Через весь мир идет сквозная перспектива, все прозрачно, все проницаемо, весь мир отлично виден из конца в конец»[133]. И те же черты присущи волошинской метафоре, особенно в поэмах цикла «Путями Каина», где порой чуть ли не вся поэма («Пар», например) представляет собой гигантски разросшуюся «полимерную» метафору, объединяющую в себе самые разнородные понятия и явления.
С этим тяготением к развернутой метафоре как средству выявления родства несходного связано, очевидно, и пристрастие к парадоксальности, свойственное и Тютчеву, и Волошину. С этим же, вероятно, связано и наличие большого числа «дуплетов», то есть вариаций одного и того же образа, попыток заново пересмотреть его возможные связи. Как замечал Л. Озеров, «разрозненные, написанные в разные годы стихотворения Тютчева невольно объединяются в определенные циклы, льнут друг к другу. Властная мысль сочетает их, даже если они отделены десятилетиями»[134]. Стоит вспомнить неоднократно повторяющиеся у Волошина образы огня, пала, оков, миража, бреда и т. п. Он объединяет в единый цикл поэмы, написанные в 1922—1923 гг., с поэмами, возникшими в 1915 г. В книгу стихов о революции органически входят стихи 1905 года.
Следует отметить, что неслучайность отмеченных черт сходства подтверждается сходством ряда образов Тютчева и Волошина. Их отличает напряженная интеллектуальность и активное человеческое начало. Может быть, это одно из самых важных противоречий и одна из главных побед как Тютчева, так и Волошина, что, придя к историческому фатализму, они не стали «праздными соглядатаями» социальных процессов. Их поэзия — активное ниспровержение их же исторических концепций, по которым человек ничтожен перед природой и не способен управлять своим развитием. Несмотря на пессимистические выводы о том, что судьбы человечества зависят от каких-то «демонов», поэты мужественно вступили в бой с этими «демонами», бросая им вызов, призывая своего читателя к непокорности, восстанию, активной позиции: «Так будь же сам вселенной и творцом! Сознай себя божественным и вечными и плавь миры по льялам душ и вер. Будь дерзким зодчим Вавилонских башен, Ты, — заклинатель сфинксов и химер!» (303) — так заканчивал свою поэму «Космос» Волошин. Умная поэзия Тютчева и Волошина просветляет и современного читателя. Можно считать, что герой поэзии Тютчева и Волошина явился словно бы предвосхищением современного героя литературы — ученого, интеллигента второй половины XX столетия, выступившего против демонов термоядерной войны.
Творчество Волошина явилось закономерным продолжением и развитием традиций русской классической литературы, и в частности ее тютчевской линии. Выявление этой связи, как видно, не только приводит к более глубокому понимание творчества Волошина, но углубляет наше представление и о Тютчеве. Видимо, и литературные традиции имеют, пользуясь современным термином, «обратную связь». Выявляя литературные традиции, яснее понимаешь те явления жизни, которые этими традициями отражены. Вопросы литературной традиции поэтому не могут быть сведены к внутрилитературному ряду. Установление этих связей — один из путей к пониманию исторических процессов и явлений.
С. С. Гречишкин, А. В. Лавров
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН И АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
В одном из вариантов автобиографии, составлявшемся в 1920-е годы, Волошин писал о поре своего духовного становления: «Доживался последний год постылого XIX века: 1900 год был годом „Трех разговоров“ Владимира Соловьева и его „письма о конце Всемирной Истории“, годом Боксерского восстания в Китае, годом, когда явственно стали прорастать побеги новой культурной эпохи, когда в разных концах России несколько русских мальчиков, ставших потом поэтами и носителями ее духа, явственно и конкретно переживали сдвиги времен. То же, что Блок в Шахматовских болотах, а Белый у стен Новодевичьего монастыря, я по-своему переживал в те же дни в степях и пустынях Туркестана, где водил караваны верблюдов»[135].
Вступление Андрея Белого и Волошина в литературу было почти одновременным, но особенно примечательной была их синхронность во внутреннем смысле, в сходстве первоначальных творческих импульсов. «Безбрежное ринулось в берега старой жизни; а вечное показало себя среди времени, — характеризовал Белый свои ощущения рубежа веков, — это вторжение вечного ощутили мы в 1898 и 1899 годах землетрясением жизни»[136]. Волошин и Андрей Белый — не только представители одного писательского круга, но и духовные спутники, «сочувственники» и «совопросники». Переживание нового века как новой эры, неопределенные ожидания
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.