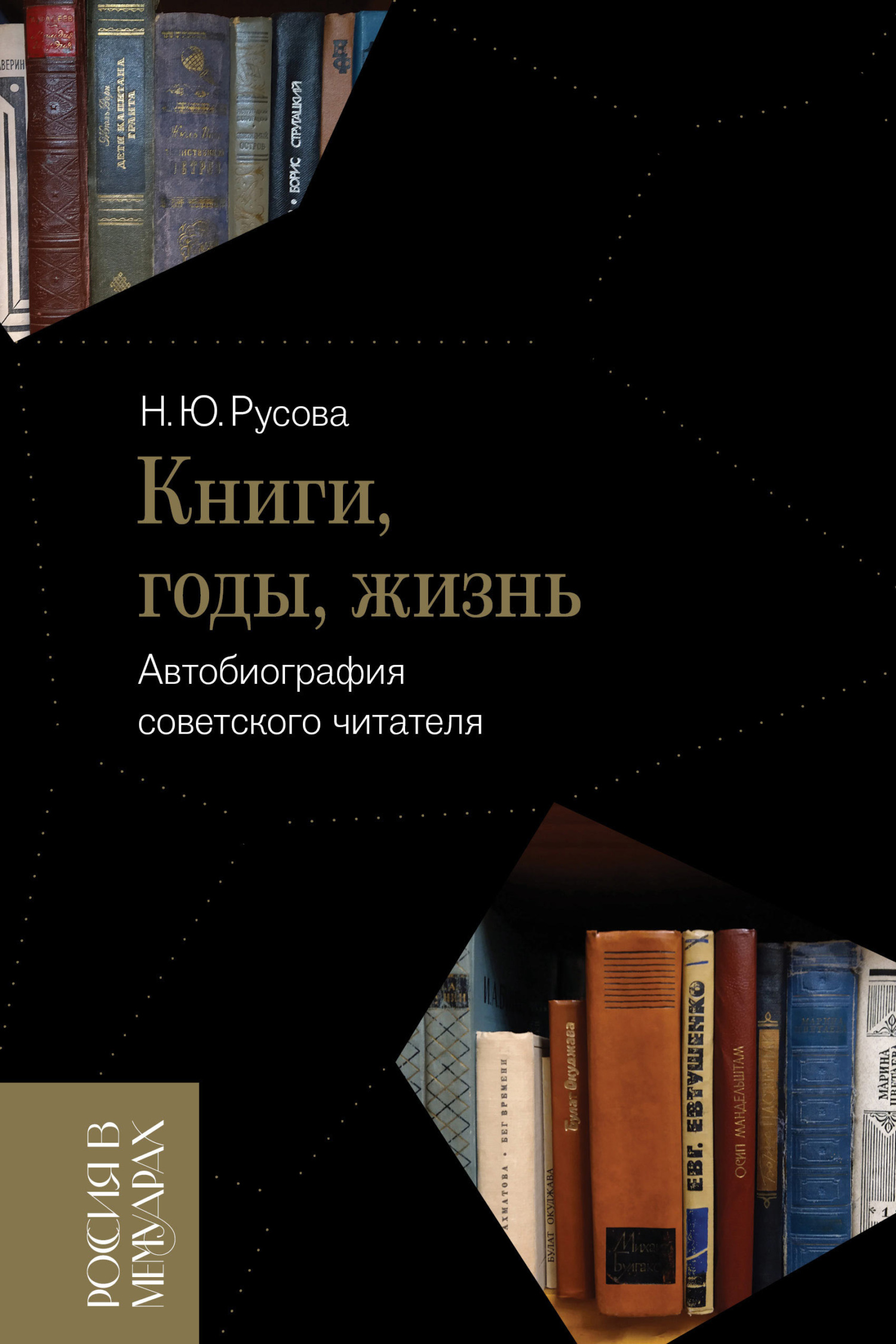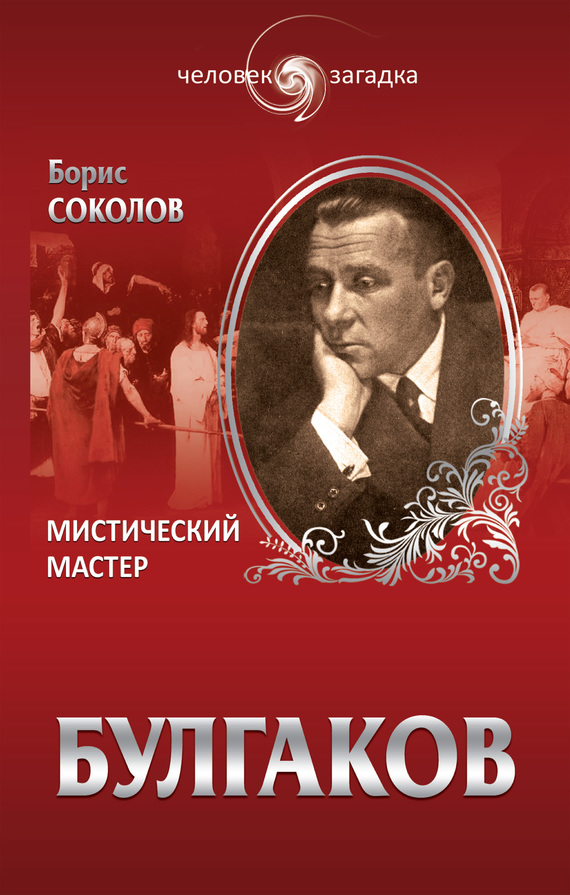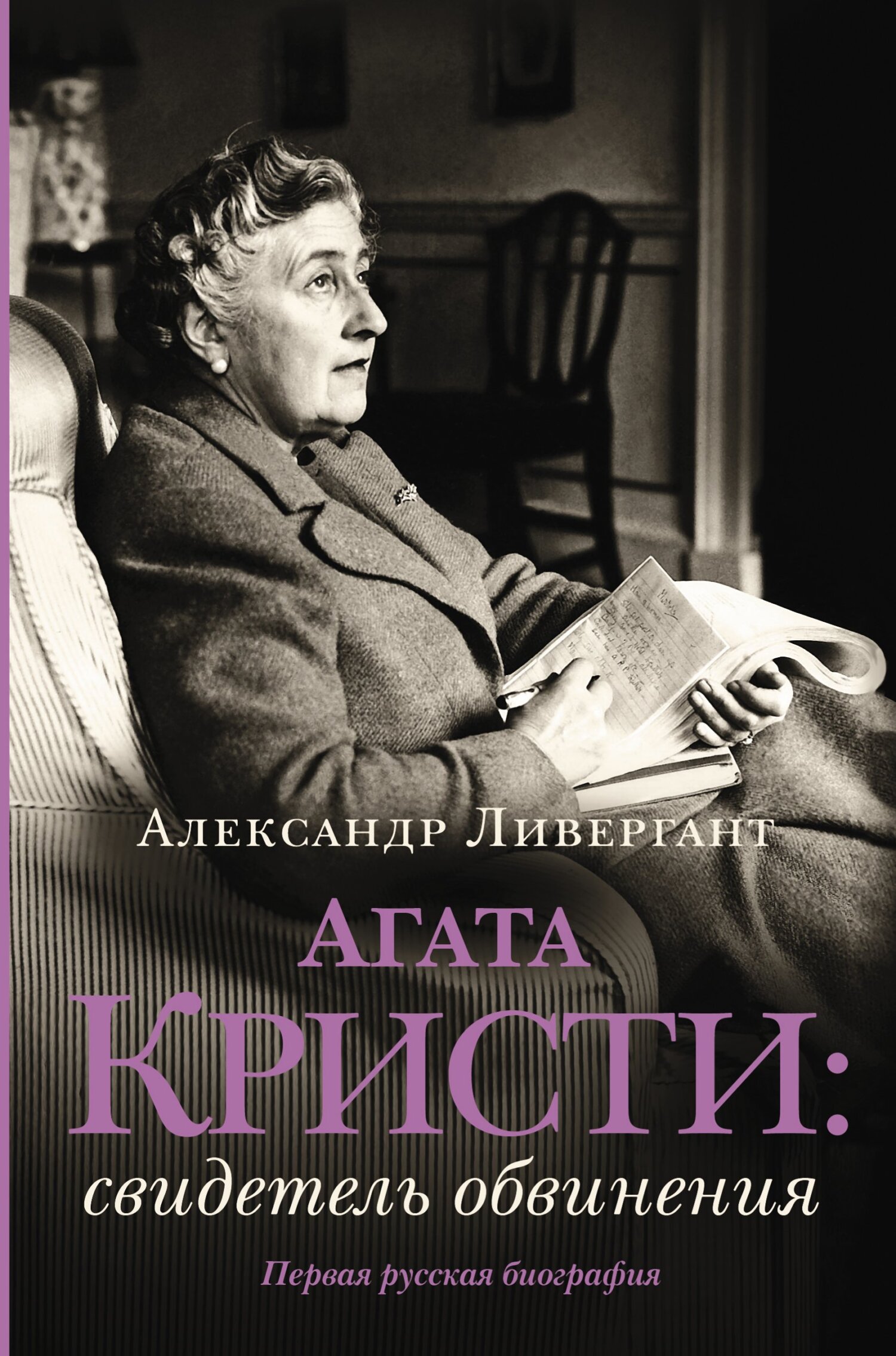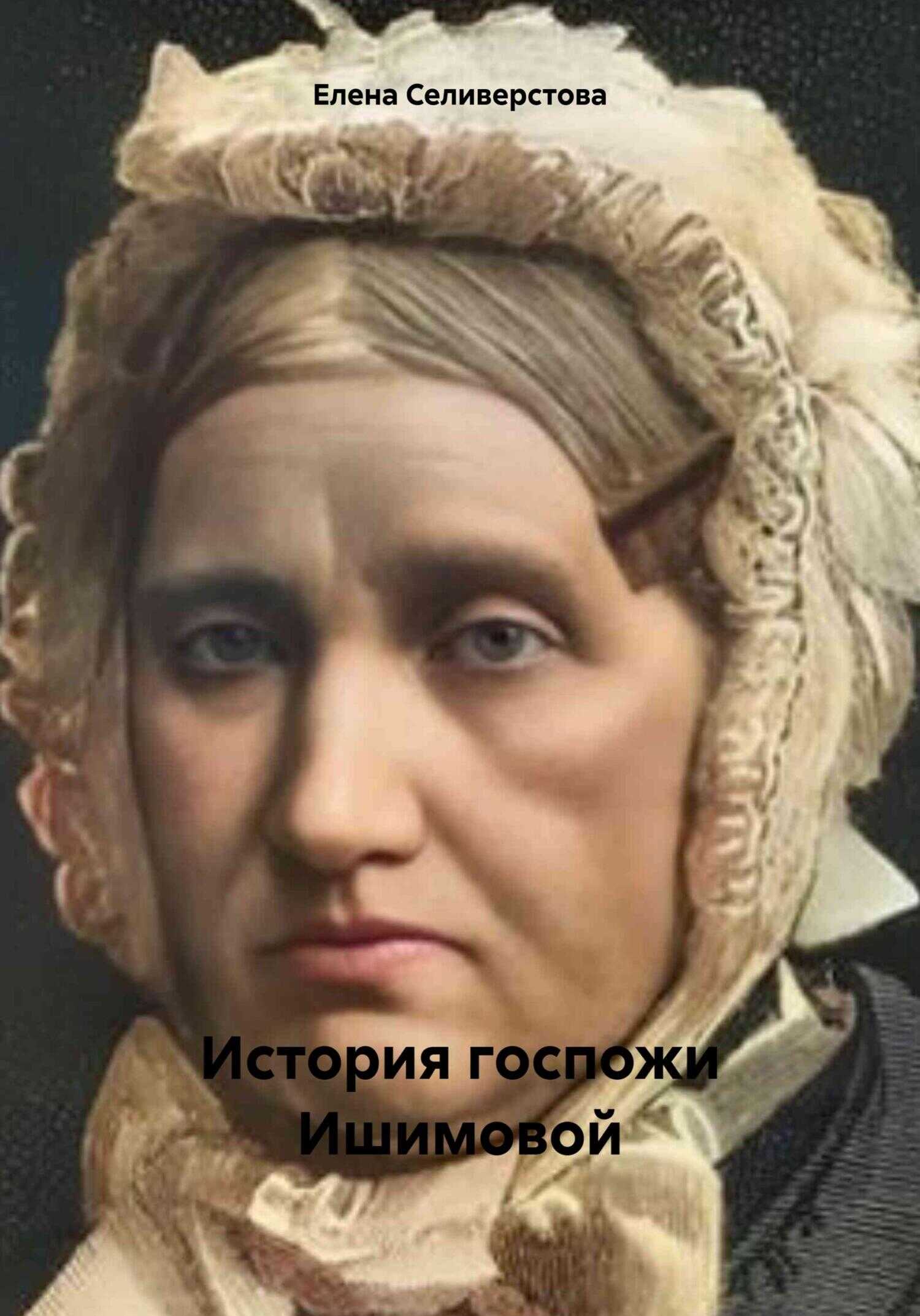Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко Страница 23

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Владимир Петрович Купченко
- Страниц: 48
- Добавлено: 2024-05-29 18:03:23
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко» бесплатно полную версию:«Сборник научных трудов подготовлен на основе материалов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. А. Волошина (Коктебель, 1977) — поэта, художника, переводчика и критика, одного из известных представителей русской культуры начала XX века. В его произведениях отражается ход русской и мировой истории, воссоздаются словом и кистью картины природы Восточного Крыма.
В материалах сборника подводятся итоги научных исследований. В статьях освещены важнейшие проблемы и особенности поэзии М. Волошина, киммерийская (крымская) тема в его произведениях, многогранные связи с представителями русской литературы разных поколений (Ф. Тютчев, А. Белый и др.), отношение М. Волошина к естественным наукам, состав личной библиотеки поэта и др.
Сборник рассчитан на читателей, интересующихся русской культурой начала XX века и становлением советского искусства».
Содержание:
В. А. Мануйлов. Максимилиан Волошин — поэт, мыслитель, художник
Л. А. Евстигнеева. Прозревая будущее… (М. А. Волошин и революция 1905—1907 гг.)
Е. М. Сахарова. Поэзия и революция. (Тема революции в творчестве М. А. Волошина советского периода)
А. В. Десницкая. Киммерийская тема в поэтическом творчестве М. А. Волошина
Е. В. Завадская. Поэтика киммерийского пейзажа в акварелях М. А. Волошина. (Отзвуки культуры Востока)
Ал. Горловский. Тютчев и Волошин
С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. Максимилиан Волошин и Андрей Белый
С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. М. Волошин и А. Ремизов
В. П. Купченко. О некоторых проблемах изучения жизни и творчества М. Волошина
В. П. Купченко. Библиотека М. А. Волошина
В. И. Цветков. М. А. Волошин и естественные науки
Указатель имён
Указатель произведений М. А. Волошина
Волошинские чтения - Владимир Петрович Купченко читать онлайн бесплатно
Однако исторический пессимизм и идеализм в поэзии вовсе не тождественны аналогичным явлениям в политике и философии. Политические и философские взгляды художника — только часть его мировоззрения, и «если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»[123]. Принципиально неверно, когда, забывая о марксистско-ленинской теории отражения, подходят к явлениям искусства только с точки зрения их плакатно-поучительной ценности, понимая саму эту ценность узкоутилитарно.
Становление Тютчева как поэта приходилось на эпоху буржуазных революций в Европе, становление Волошина — на эпоху нарастания революции пролетарской. Не будучи связаны с теми силами, которые готовили революционные перевороты, оба поэта склонны были видеть прежде всего разрушительную силу предстоящих социальных катаклизмов. Именно это предощущение неминуемых сдвигов, «геологических оползней душ» (Волошин, «Четверть века»), и давало основной импульс их поэзии. Нельзя не согласиться с Н. Берковским, который писал: «Осознавал то Тютчев или нет, но именно Европа, взрытая революцией 1789 года, воодушевляла его поэзию»[124]. Что же касается Волошина, то он сам неоднократно говорил достаточно определенно: «То, что мне пришлось в зрелые годы пережить русскую революцию, считаю для себя великим счастьем»[125]. И еще: «Дар речи возвращается мне только после Октября, и в 1918 г. я заканчиваю книгу о Революции „Демоны глухонемые“ и поэму „Протопоп Аввакум“»[126].
Конечно, различие эпох не могло не сказаться на самом характере их восприятия. Но это не отменяет, а только усиливает сходство, помогая воспринимать Тютчева и Волошина как звенья одной и той же цепи: они отразили разные этапы одного и того же исторического процесса. Думается, многие мысли и оценки Волошина могли бы стать тютчевскими, доживи Тютчев до бурных событий начала XX века. Речь идет не о литературной традиции, но о прямой философско-нравственной преемственности.
По справедливому замечанию П. Громова, отказывая художнику в праве на противоречивость творчества, мы тем самым отказываем ему в праве на отражение противоречий действительности, лишаем литературу права быть «зеркалом революции»[127]. Та половинчатая формула, к которой мы часто прибегаем, разделяя творчество великих писателей прошлого на «реакционное» и «прогрессивное», «правильное» и «неправильное», — все та же дань вульгарно-социологическому методу, потому что творчество талантливого художника не поддается механическому членению и в самой противоречивости своей сохраняет удивительную цельность. Отвержение одной части этого органического целого неизбежно влечет за собой неправильное понимание и отвержение других частей.
Сказанное имеет прямое отношение к Волошину и Тютчеву: как того, так и другого поэта долгое время искусственно изолировали от литературного процесса на основе тех или иных «ошибок» и «непониманий». А между тем неприятие революции Тютчевым и позиция «над схваткой» Волошина объясняются не «реакционностью» поэтов, а тем, что они видели и глубоко воспринимали ту сторону революции, о которой В. И. Ленин говорил: «Наша революция — явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных свершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего…»[128].
В стихотворении, посвященном декабристам, Тютчев осуждает их вовсе не за то, что они выступили против самодержавия, отождествляемого им с ледяным полюсом, — а за то, что они изменили присяге, слову. Нравственный аспект был для поэта наиболее существенным в оценке людей и их деятельности. Из статьи «Россия и революция» видно, что революция отталкивает его прежде всего потому, что в ней видится возможность торжества ненасытного человеческого эгоизма, противовес которому Тютчев находил только в соблюдении человеком не им установленных законов (ср. с карамазовским «все дозволено»). Таким образом, в революции Тютчев видел прежде всего возможность торжества буржуазного начала. Это неприятие сродни тому, которое было у Л. Толстого и Достоевского, отчетливо различавших в буржуазных революциях античеловеческое, диктаторское начало.
Но разве не то же самое у Волошина, видевшего, как «вслед героям и вождям крадется хищник стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам» («Гражданская война»)? Стихи о русской революции, написанные им предельно конкретно и точно, позволяют понять отношение Волошина к человеческой швали, взметенной революцией со дна жизни. Лишь один портрет среди стихотворного цикла «Личины» отличается сочувственной интонацией — портрет большевика. Такое изображение не очень расходится с известными нам историческими фактами. Когда в статье «Поэзия и революция» Волошин говорит о «так называемой буржуазии и пролетариате, которые свои личные и притом исключительно материальные счеты хотят раздуть в мировое событие, при этом будучи в сущности друг на друга похожи как жадностью к материальным благам и комфорту, так и своим невежеством, косностью и полным отсутствием идеи духовной свободы»[129],— совершенно ясно, что речь идет не о том классе, который провозгласил «свободное развитие каждого», как «условие свободного развития всех»[130], возглавил пролетарскую революцию, осуществил социалистическое строительство и создание социалистической культуры.
Совершенно очевидно, что, различая в революции сильную накипь буржуазных и мелкобуржуазных,элементов, боясь их победы, Волошин, как и Тютчев, утверждал гуманистический идеал. Вот почему стихи «реакционера» Тютчева восхищали Чернышевского и Ленина. Вот почему стоявший «над схваткой» Волошин принял активное участие в строительстве социалистической культуры и находился под особым покровительством Советской власти.
И Волошин, и Тютчев интуитивно ощущали, что за революцией стоят не только разрушительные силы. Тютчев соотносит с морем-революцией не только стихию разрушения, но и стихию движения, его влечет к себе эта переменчивая и прихотливая стихия, которая «и бунтует, и клокочет, хлещет, свищет и ревет, и до звезд допрянуть хочет, до незыблемых высот» (146), отождествляя с революцией эту переменчивую стихию, а с властью — неподвижность мертвого утеса. А Волошин писал: «Жгучий ветр полярной преисподней, Божий бич, приветствую тебя!» («Северо-восток»).
Справедливо замечает новейший исследователь творчества Тютчева: «Не без оснований боявшийся, что крепостнический произвол будет заменен другим произволом, в действительности более деспотическим, ибо он будет облечен во внешние формы законности», Тютчев видел только один выход из духовного кризиса: разврату, глупости и злоупотреблениям верхов общества он противопоставил нетленную душу народа, не сломленную рабством и не сгоревшую в огненной купели войны. Этот катарсический мотив оказался близок некоторым русским поэтам
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.