О праве войны и мира - Гуго Гроций Страница 38
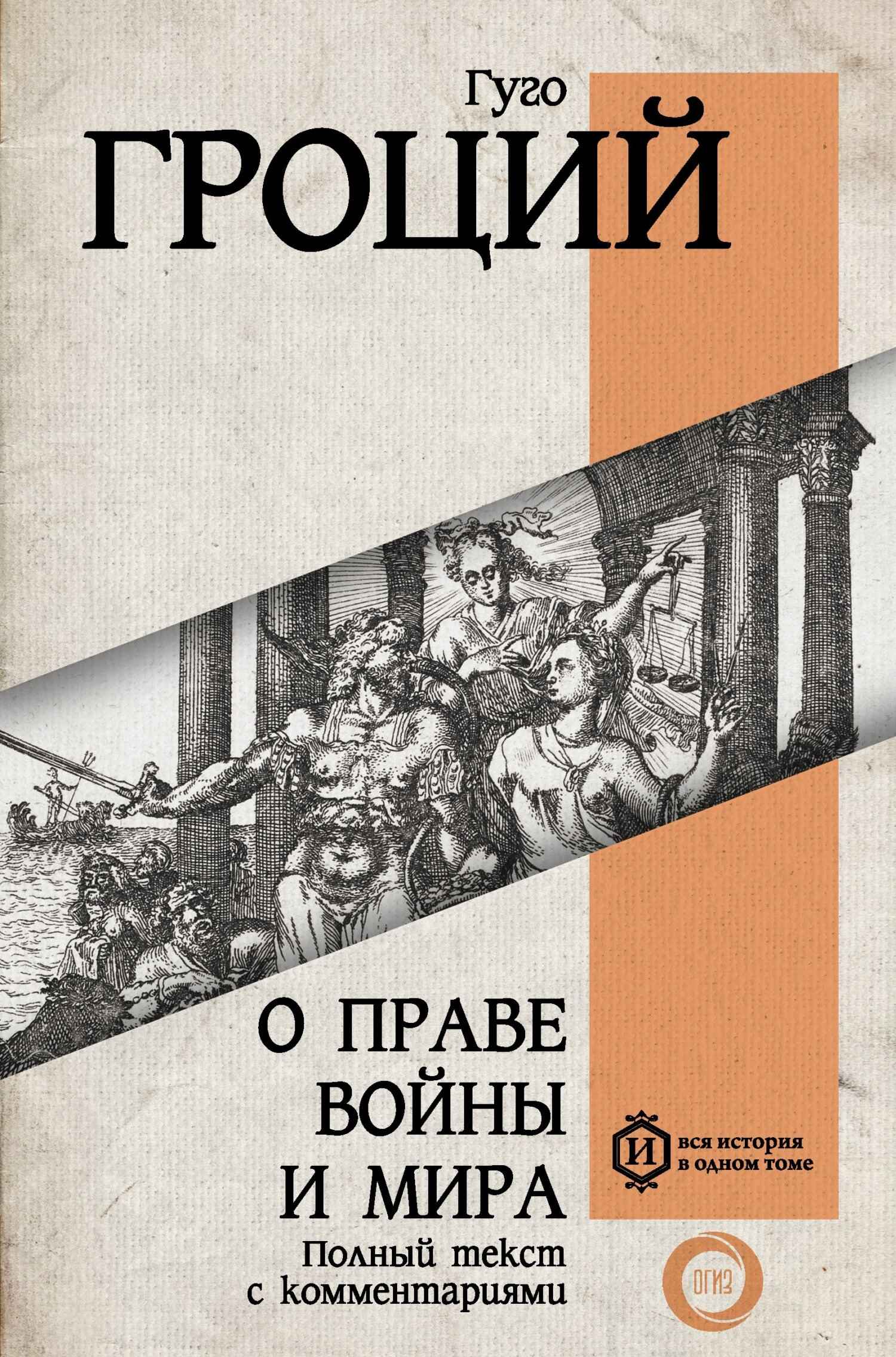
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Старинная литература / Европейская старинная литература
- Автор: Гуго Гроций
- Страниц: 52
- Добавлено: 2023-08-25 09:08:35
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
О праве войны и мира - Гуго Гроций краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «О праве войны и мира - Гуго Гроций» бесплатно полную версию:Гуго Гроций – знаменитый голландский юрист и государственный деятель, философ, драматург и поэт. Заложил основы международного права Нового времени, разработав политико-правовую доктрину, основанную на новой методологии, которая содержит оригинальные решения ряда проблем общей теории права и государства, а также радикальные для того времени программные положения.
В ключевом труде Гроция – трактате «О праве войны и мира», опубликованном в 1625 году во Франции и посвященном Людовику XIII – разработана и сформулирована система принципов естественного права, права народов и публичного права. При его написании голландский ученый преследовал следующие цели – решить актуальные проблемы международного права и доказать, что во время войны глас закона не должен быть заглушен грохотом оружия. Гуго Гроций жил во времена Восьмидесятилетней войны между Нидерландами и Испанией и Тридцатилетней войны между католиками и протестантами Европы, он осуждал агрессивные, захватнические войны и считал, что подобные конфликты должны вестись только ради заключения мира и подчиняться принципам естественного права – эта установка автора и легла в основу трактата «О праве войны и мира».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
О праве войны и мира - Гуго Гроций читать онлайн бесплатно
4. В Македонии цари, потомки Карана, по словам Каллисфена, приведенным у Арриана, «приобрели власть не насилием, но по закону». А у Квинта Курция в книге IV сказано: «Македоняне привыкли жить под царской властью, но под сенью большей свободы, нежели прочие народы». Ибо ведь рассмотрение дел, по которым гражданам грозила смертная казнь, не входило в ведение царя. Тот же Курций (кн. VI) добавляет: «Дела о смертной казни, согласно древнему македонскому обычаю, рассматривали войска; в мирное же время рассмотрение этих дел принадлежало народу, царская же власть была бессильна, если не успевала заранее получить одобрения своих решений». Имеется еще один пример такого смешения властей в другом месте у Курция: «Македоняне, согласно обычаю своего народа, наблюдали, чтобы царь не охотился пешком, без избранной свиты из числа знатных и друзей» (кн. VIII). Тацит сообщает о готонах «Они находятся в несколько большем подчинении у своего царя, нежели прочие германские племена, но вовсе не лишены свободы». Ибо раньше он изобразил принципат как право советовать, но не как власть повелевать. Вслед за тем он изображает абсолютную царскую власть такими словами «Повелевает один. Власть его не ведает границ и не является временным полномочием». Евстафий в комментарии на шестую песнь «Одиссеи», где описывается государственное устройство феакийцев, говорит, что «у них было смешение власти царя и знатных»[215].
5. Нечто подобное я нахожу во времена римских царей. Тогда почти все государственные дела вершились рукой царя. «Нами повелевал Ромул по своему произволу», – пишет Тацит. «Несомненно, что первоначально в Риме вся власть в государстве принадлежала царям», – говорит Помпоний; и тем не менее даже в это время разрешение некоторых дел было сохранено за народом, как полагает Дионисий Галикарнасский. Если же отдать предпочтение свидетельствам самих римлян, то в некоторых случаях имелась возможность обращаться к народу с жалобами на царя, как замечает Сенека (письмо СVIII) на основании трактата Цицерона «О государстве», а также лонтификальных записей и Фенестеллы. Вскоре затем Сервий Туллий, овладевший царской властью не столько по праву, сколько по расположению к нему народа, значительно способствовал умалению царской власти, ибо, по выражению Тацита, «он утвердил законы, которым должны были подчиняться даже цари» («Летопись», кн. III). Неудивительно поэтому, что, по словам Тита Ливия, власть первых консулов отличалась от царской власти почти не чем иным, как только годичным сроком.
6. Сходное смешение народной и олигархической власти имело место в Риме во времена междуцарствия и в первые консульства. Ибо в некоторых делах, и как раз наиболее важных, постановления народа приобретали силу не иначе как с одобрения сената[216]; впоследствии же, с возрастанием власти народа, это правило сохранило лишь внешнюю видимость старины, так как сенат начинает давать свое одобрение решениям народа заранее, не дожидаясь исхода дел в комициях, как свидетельствуют Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский. Даже в более поздние времена наблюдаются некоторые следы прежнего смежения властей до тех пор, пока, по словам Тита Ливия, власть оставалась у патрициев, то есть у сената, у трибунов же, то есть у народа, было право содействия, а именно право отклонения тех или иных мероприятий или право вмешательства (кн. VI).
7. Исократ тоже был склонен видеть в Афинском государстве во времена Солона некоторое смешение власти знатных с народным правлением. Установив эти факты, обратимся к рассмотрению некоторых вопросов, часто встречающихся при рассмотрении разбираемого предмета.
XXI. О совместимости верховной власти с договором, обременяющим сторону неравным союзом; разбор возражений
1. Первый вопрос касается того, может ли обладать верховной властью лицо, связанное неравным союзным договорным соглашением. Под неравными союзными договорами я понимаю не такие, которые заключаются между державами с неравными силами, как, например, договор между Фиванским государством времен Пелопида и царем персидским, и не такие, которые римляне некогда заключили с массилийцами (Юстин, кн. XLIII), а затем с царем Масиниссой (Валерий Максим, кн. VII, гл. 1), и отнюдь не те, которые имеют временную силу, как, например, если враждующая сторона согласна на мир с противником ради получения от него возмещения военных издержек или иного рода удовлетворения. Неравные договоры имеют место тогда, когда в силу самого договора одна сторона вынуждена отдавать постоянное преимущество, а именно если одна сторона обязана оказывать поддержку власти и величию другой стороны, как, например, в договоре этолиян с римлянами, то есть оберегать от посягательств верховенство другого государства или его достоинство, которое носит название величества. Тацит назвал это отношение «уважением к верховной власти» и дал следующее пояснение: «Их жилища и пределы на другом берегу, а сами они заодно с нами душою и сердцем». А у Флора оказано: «Прочие народы не подчиненные римской государственной власти, чувствовали, однако же, ее величие и стали оказывать знаки уважения победителю народов – римскому народу» (кн. IV). Сюда же следует отнести такого рода права, которые ныне именуются покровительством, защитой, опекой; таковы, например, у греков права городов-метрополий в отношении колоний. Ведь, по словам Фукидида, хотя колонии и имели равные права с метрополиями, но они были обязаны оказывать последним почести, то есть внешнюю почтительность и определенные знаки уважения (кн. I).
2. У Ливия о древнем договоре между римлянами, овладевшими полностью Альбой, и латинянами, происходившими из Альбы, сказано так: «В этом договоре господство было на стороне римлян» (кн. I). Правильно вслед за Аристотелем рассуждает Андроник Родосский («На «Этику Никомаха», IX, 18) о Дружбе между неравными сторонами, что на долю сильнейшего выпадает больше чести, на долю же слабейшего – больше обязанностей оказывать содействие первому. Известно, как на разбираемый вопрос ответил Прокул, а именно что свободен тот народ, который не подчинен власти другого народа, даже если он и вовлечен в такой договор, согласно которому он обязан оказывать добрые услуги для поддержания величия другого народа (L. non dubito, D. de cap). Стало быть, если народ, связанный таким договором, остается свободным, поскольку он не подчинен власти другого народа, то, следовательно, он сохраняет верховную власть. То же самое следует сказать о царе, ведь одно и то же основание верховенства как народа, так и царя, который поистине царь, Прокул добавляет к сказанному, что подобная особая оговорка вносится в договор с тем, чтобы было понятно, что один народ имеет первенство перед другим, но это не значит, что другой тем самым лишен свободы. Первенство здесь должно означать не превосходство власти, а преимущество чести и достоинства
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.