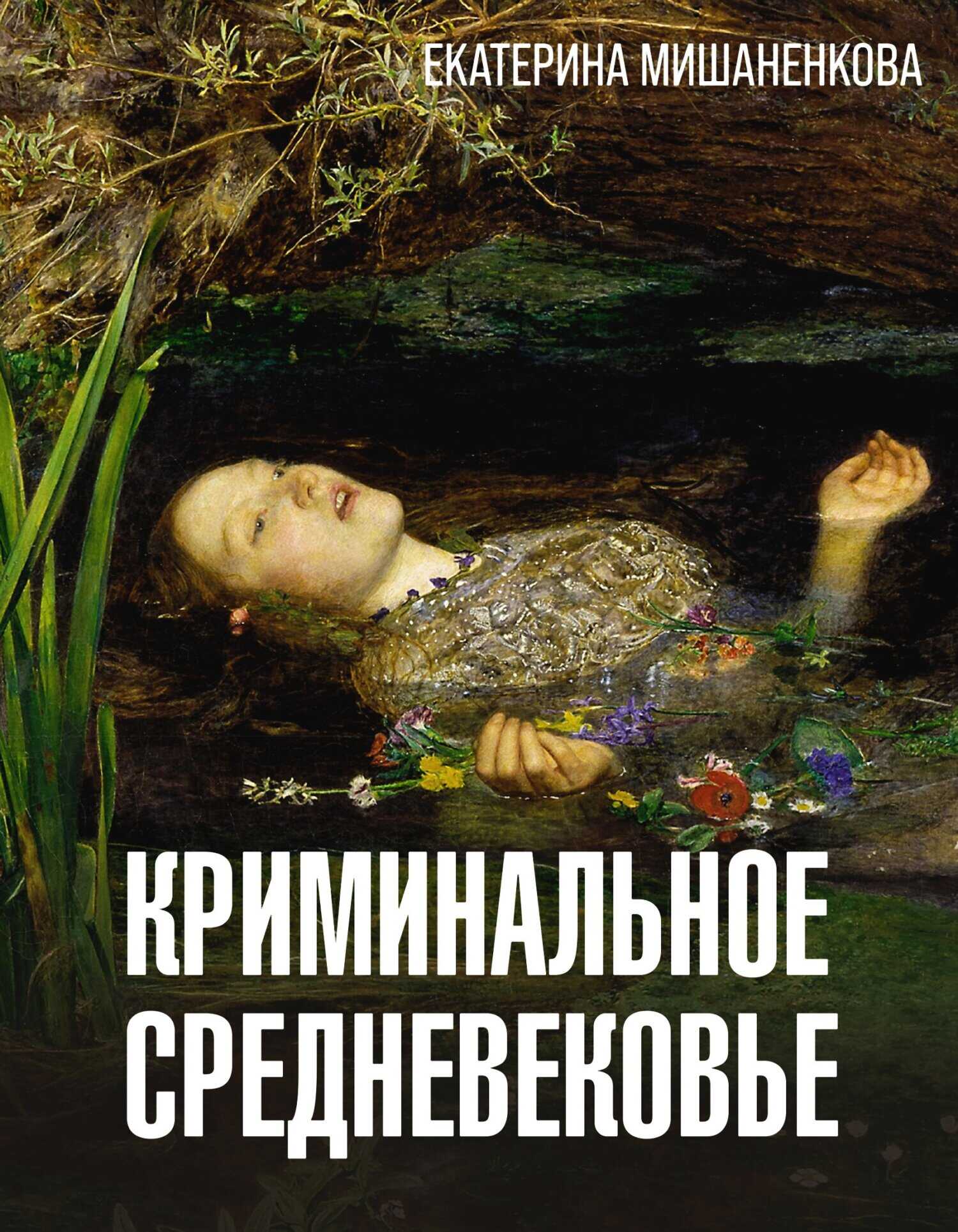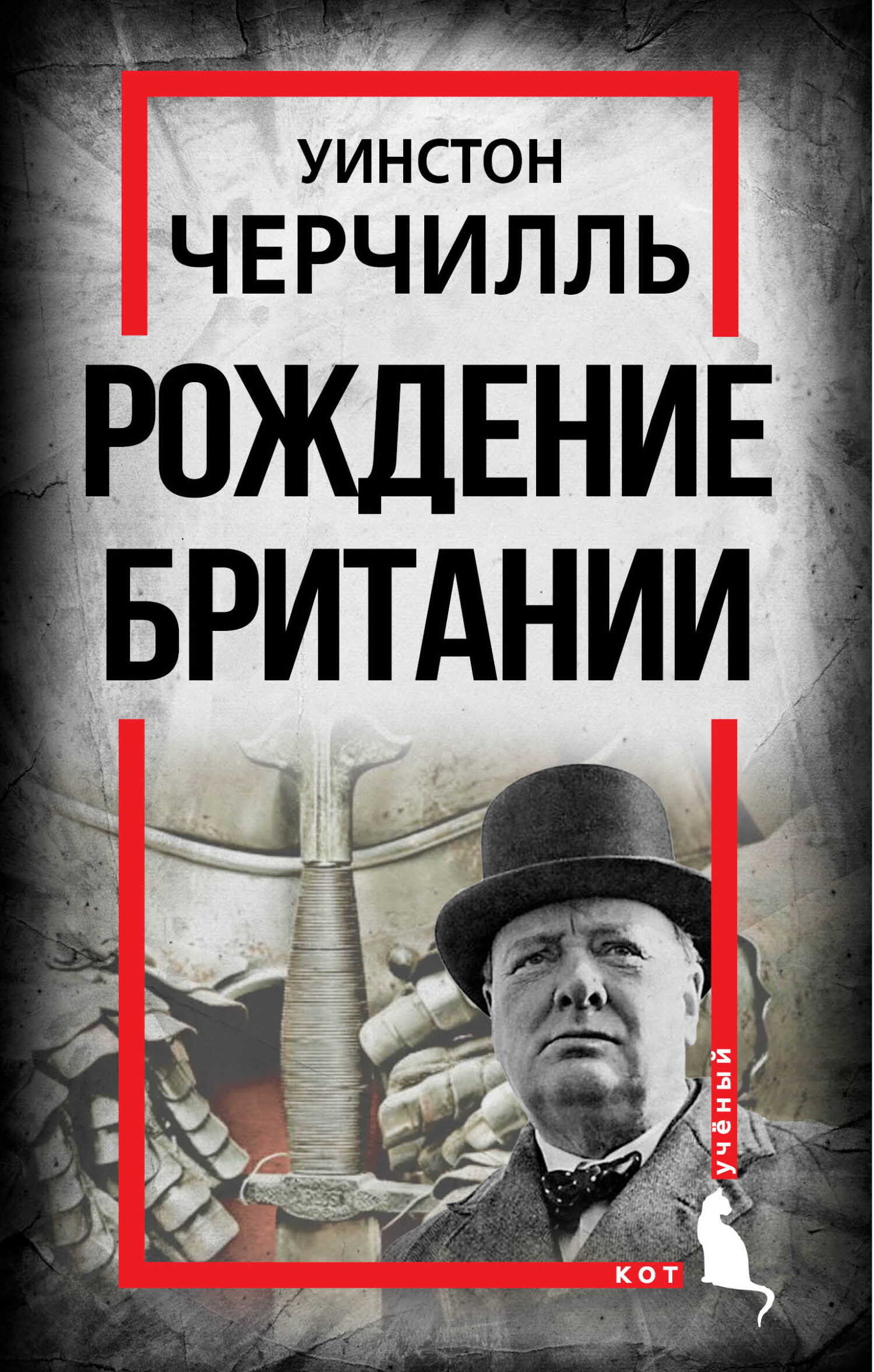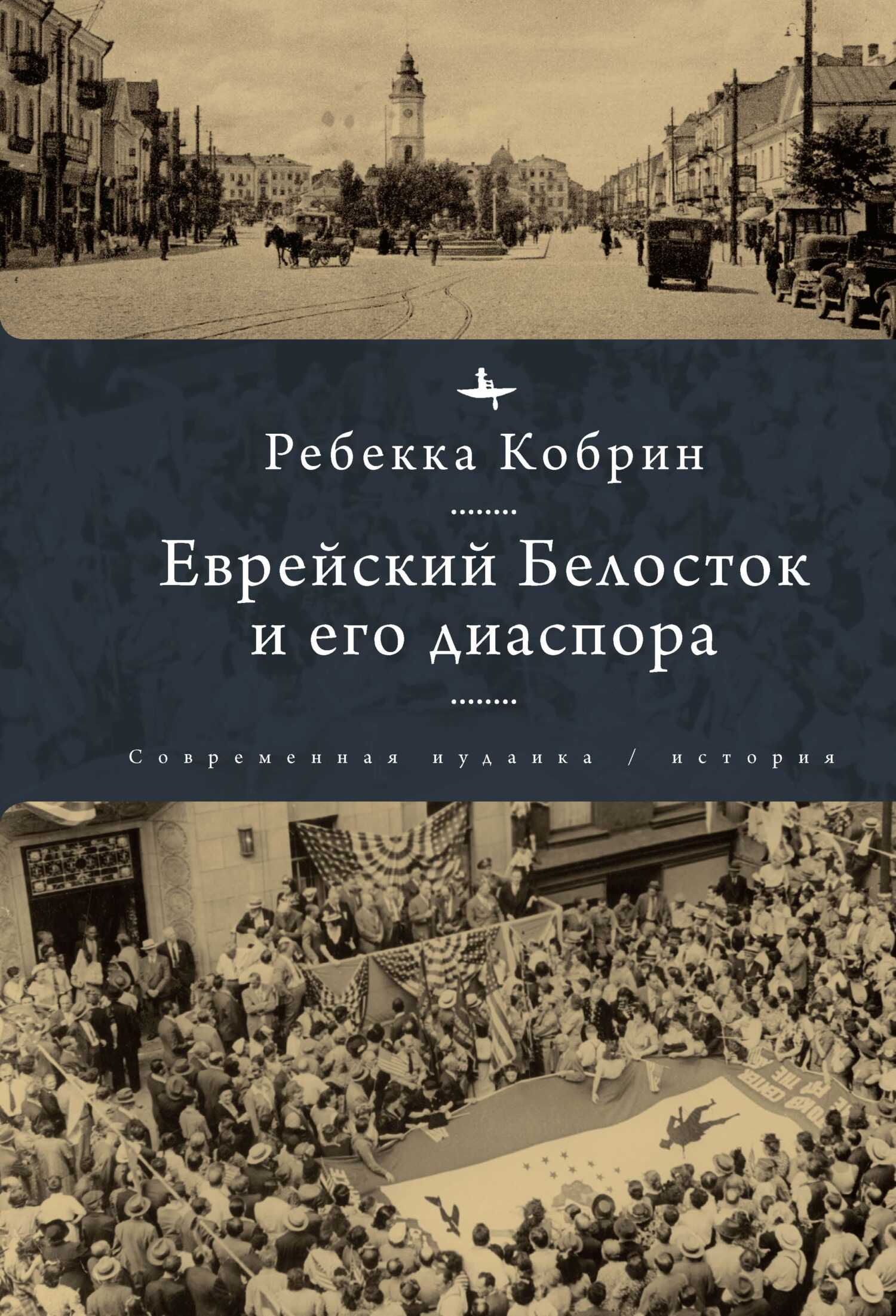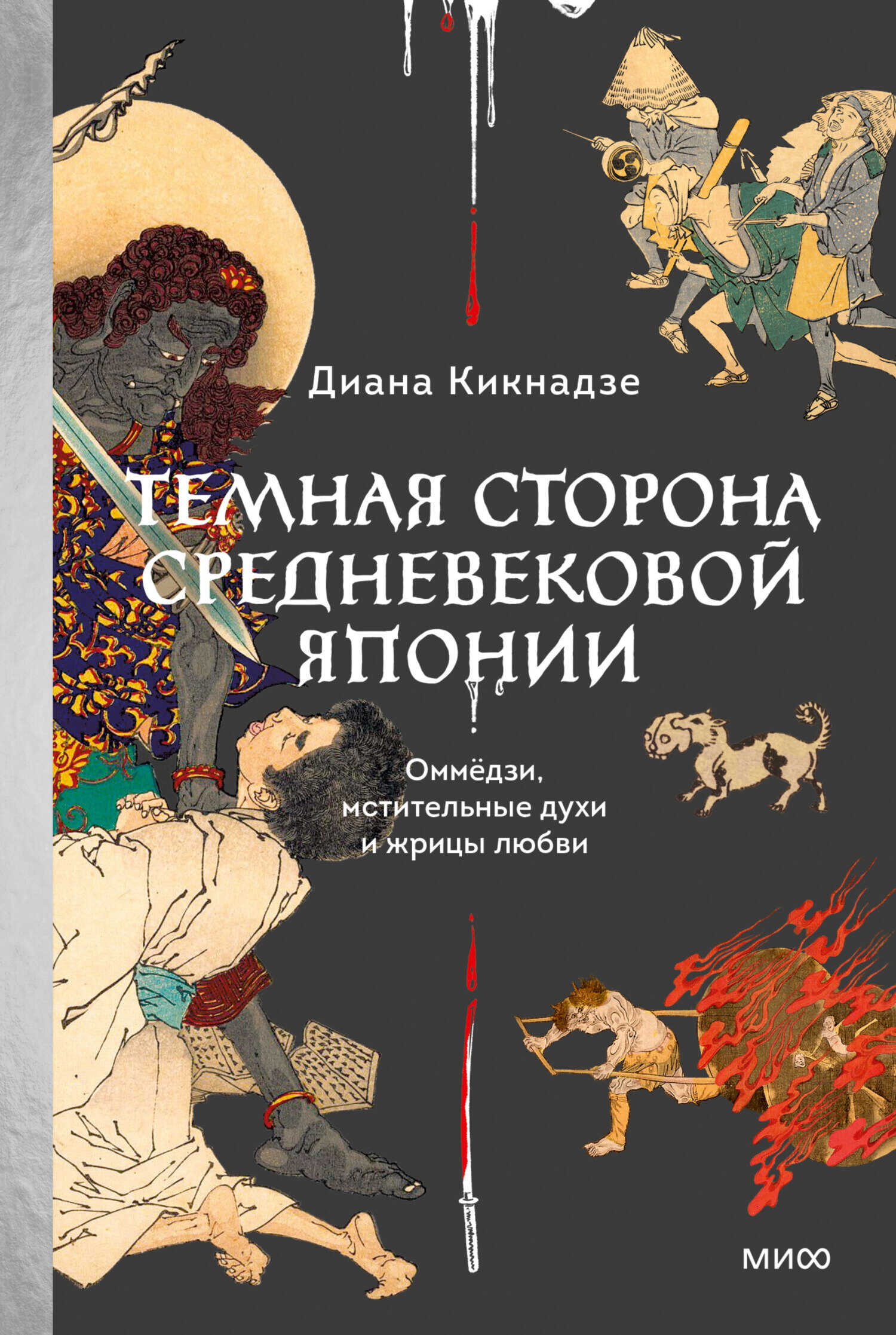Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин Страница 7

- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Иван Егорович Забелин
- Страниц: 199
- Добавлено: 2025-07-07 00:25:50
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин» бесплатно полную версию:Иван Егорович Забелин (1820–1908) – выдающийся русский историк и археолог. Самые известные труды Забелина – «Домашний быт русских царей» (1862) и «Домашний быт русских цариц» (1869) – первые в русской исторической литературе целостные исследования повседневной жизни царского двора. Убежденный в том, что «домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории», Забелин интересовался не только представлениями древнерусского общества о женщине и царице, но и дворцовыми правилами и традициями, одеждой, украшениями и развлечениями. И. С. Тургенев ценил в манере Забелина «ясную простоту изложения» и «русский дух» – достоинства, которые делают исследования Забелина доступными для любого увлеченного читателя.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин читать онлайн бесплатно
Таким образом, нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор только о словах. Они говорят, что рода не было, а была семья, что было семейное чувство, семейное начало (жизни) как начало чисто нравственное, что семейная община любовно исполняла волю отца и т. д. Со всеми такими утверждениями мы согласны вполне. Семейное чувство, семейное начало жизни мы почитаем нравственною стихиею древнерусского быта, основою всех его жизненных движений. Мы только, желая вернее и точнее обозначить свойства этого быта, именуем его не семейным, а родовым и в той семье, какую изобразила нам общинная теория, видим род, в семейном чувстве – именно родовое чувство; в семейной общине – родовую общину или общину-родню. Семьею мы именуем семью в тесном, т. е. в ее собственном, прямом смысле, не почитая уместным переносить этот смысл на новый своеобразный порядок жизни, для обозначения которого существует свое, ему именно принадлежащее слово. Род есть семья семей, что, конечно, не одно и то же с семьею в обыкновенном смысле. Оттого род есть в то же время и община с правами известного равенства и представительства, какие всегда неизменно принадлежали родне. Родовое чувство, родовое начало, управлявшее нашим старым бытом, есть, в сущности, родовая идея, которая была творцом нашего единства, нашей народной силы, творцом всех наших народных добродетелей и всех наших народных напастей – государственных и общественных.
Но была же, однако, община в Древней Руси? Действительно была – и двор, этот неизбежный сосуд родового быта своею внешнею стороною, тою стороною, что он есть собственность или часть общей земской собственности, является единицею общинного быта. Двор был жилищем для семьи-рода, он же был земским имуществом, частью земли, на которой сидело племя; в этом последнем своем значении он и является единицею новых отношений того же племени, он тянет к общим делам земли.
Сиденье племени на одной земле, владенье угодьями этой земли, общее тягло на защиту или в дань, какое неизбежно являлось от сиденья-владенья на той земле, – все это само собою становилось общим делом земли и создавало общинную жизнь.
В общих земских делах кто же должен был принимать участие в общем тягле, как не хозяин земской же единичной собственности, единичного хозяйства, частного, особного сиденья на земле, особного пользования ее угодьями? Двор был выразителем этой особности. А кто был выразителем двора? Конечно, его хозяин, большой. Большим же был отец или родо-начальник – и никто другой, т.е. в собственном смысле старший, большой по крови. Так было – и иначе быть не могло. Идея отца или родоначальника не умирала; в одних только ее руках соблюдалась власть во дворе-хозяйстве. Умирало лицо – т.е. отец, но идея была бессмертна: в отца место вступал старший, большой из остававшихся в живых. Этот старший всегда и был выразителем жившего во дворе рождения; естественно, что он же всегда был и выразителем двора как особного земского имущества. Но что же, собственно, выражал он в глазах земщины? Для нее выражал он только особное имущество, только двор, в котором жило его рождение своим особным хозяйством. Земская община, это общее сиденье на земле, корнем своих отношений ничего другого не могла признавать, как ту же землю, т.е. недвижимое имущество, иначе – пользование землею. Из этого корня вырастало известное равенство всех членов земщины. То есть каких же членов? Именно частных, особных владельцев земли, какими были не лица собственно, а дворы-хозяйства. Лицо здесь исчезало в понятии земской собственности, т.к. внутри двора оно исчезало в сплетениях кровной связи. Для земской общины нужен был лишь хозяин – представитель своего особого имущества, но не представитель собственного лица. На особом хозяйстве могла жить одна семья, могли жить несколько семей, целый род со многими домочадцами; но для земской общины все лица, жившие
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.