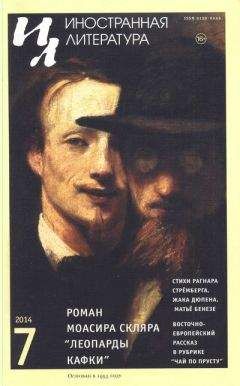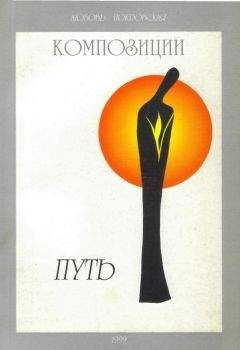Собрание произведений в 2 томах. Том I (изд. 3-е) - Леонид Львович Аронзон Страница 8
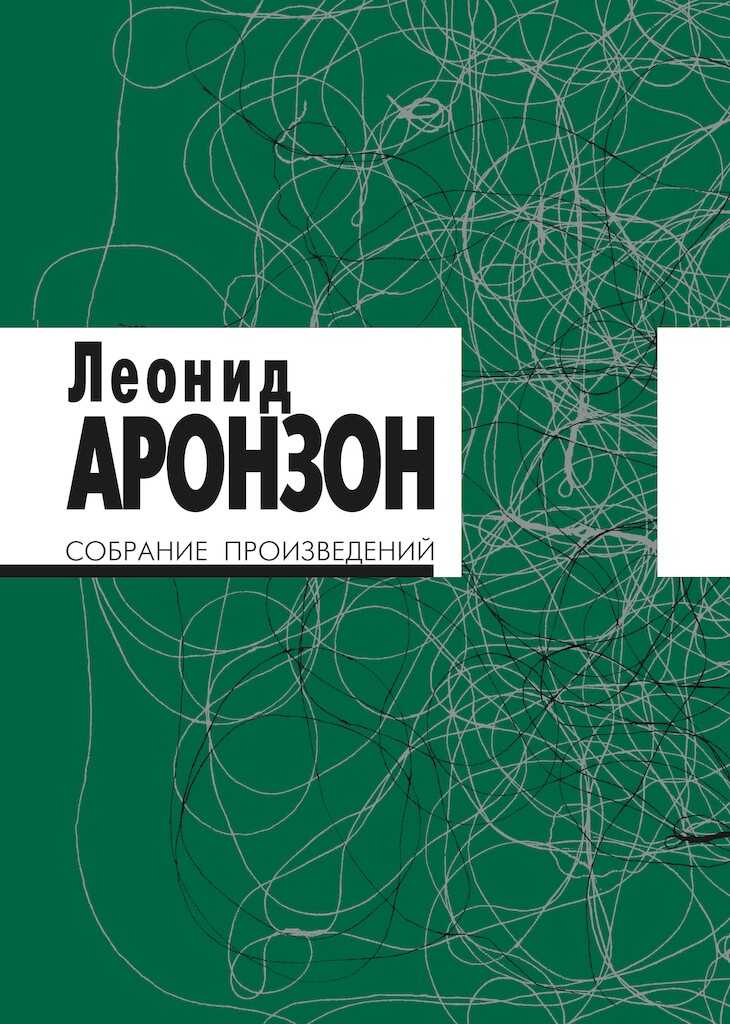
- Категория: Поэзия, Драматургия / Поэзия
- Автор: Леонид Львович Аронзон
- Страниц: 89
- Добавлено: 2025-09-11 01:13:22
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Собрание произведений в 2 томах. Том I (изд. 3-е) - Леонид Львович Аронзон краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Собрание произведений в 2 томах. Том I (изд. 3-е) - Леонид Львович Аронзон» бесплатно полную версию:Леонид Аронзон (1939–1970) — безусловно, одна из самых ярких фигур ленинградской неофициальной культуры 1950–1970-х годов. Его творчество и сама его личность оказали несомненное влияние на молодую петербургскую поэзию 1960–1990-х годов. Сохраняя традицию свободного слова, личной поэтической интонации, независимой от официальных установок или моды, он был первооткрывателем тех возможностей поэтики, которые успешно развивались позже и стали достоянием современной литературы.
Предлагаемое собрание — наиболее полное и первое научно подготовленное издание произведений поэта. Ряд текстов печатается впервые, источником ранее публиковавшихся сочинений служат исключительно авторские материалы.
Издание адресовано как специалистам, так и всем любителям поэзии.
Собрание произведений в 2 томах. Том I (изд. 3-е) - Леонид Львович Аронзон читать онлайн бесплатно
«Мысль изреченная есть ложь»: поиску однозначного соответствия между словом и явлением, отвечающему эстетике ясного, «дневного» смысла, противостоит вариативность, а то и «расплывчатость» значения слова при изображении предметов скрытых, «ночных». Аронзон исходит из явственного ощущения существования таких предметов, и именно это ощущение становится определяющим, тогда как всякое выражение неизбежно представляется приблизительным, обходящим свой предмет по одной из неисчислимо многих касательных. «Передо мной столько интонаций того, что я хочу сказать, что я, не зная, какую из них выбрать, — молчу», — говорит герой прозаической вещи «Ночью пришло письмо от дяди…». Читатель понимает, что автор имеет в виду значительно больше, чем непосредственно высказывает. Временами как раз самое важное вынесено в сферу подразумеваемого. Так, в «Прямой речи» нанизывание афористических изречений на невидимый стержень характеризуется и весьма отличным от классической ясности способом связи отдельных образов (см. также стихотворения «Вступление к поэме „Лебедь“», «Вспыхнул жук, самосожженьем…», «Несчастно как-то в Петербурге…», «То потрепещет, то ничуть…» и др.). Лирически дерзкое сопряжение весьма далеких друг от друга по смыслу (а то по видимости и взаимоисключающих) понятий и слов нередко происходит и в тропах: «свет — это тень», «о тело: солнце, сон, ручей!», «и пахнет небом и вином моя беседа с тростником» и мн. др. Этот принцип порой сравнивают со своеобразным «тоннельным эффектом» в литературе, когда мобилизуются внутренние потенции смысла слов, составляющих фразы, выражения. Подобные «тоннели», интонационные и семантические паузы образуют разветвленную систему, которая, словно катакомбами, скрытно доставляет читателя в различные точки поэтической картины.
Одновременно словом и не-словом, кроме молчания, могут являться: на фонетическом уровне — несловесные звукосочетания (у Аронзона— «ый», «ок», «ны»); на уровне графическом — несловесные знаки, изображения; на уровне семантическом — слово намеренно обессмысленное, помещенное в инородный контекст, и т. п. Но молчание — единственное (из приведенных возможностей) не принадлежит никакой самостоятельной стихии, отличной от стихии литературы (ни звуковой, ни изобразительной, ни смысловой, ни реальной, ни предметной). Хотя, поскольку литературный акт имеет различные аспекты (фонетический, семантический, графический и т. д.), постольку его истоки в определенной мере причастны тишине как необходимому логическому условию речения. А стало быть, литературный акт в известной степени связан с бессмыслицей, организующей структуры особого смысла; белым (варианты: черным, цветным) полем, на котором появляется изображение; бездействием, предшествующим стадии активности.
Разумеется, здесь имеется в виду не просто отсутствие речи, а молчание, порождающее слово, молчание, напряженной интенцией которого является слово, молчание как предел «сгущения», «свертывания» слов, молчание, которое представляет собой «я есмь» слова. Тогда слово — инобытие молчания, другая его сторона, как и молчание — инобытие слова. Слово рождается из молчания, сохраняет его суть и иногда к нему возвращается. Залог действенности слова, т. е. его способности влиять на отличные от него реальности, заключается в том, что оно — не только конкретный факт письма, речи, но одновременно и не-слово. Слово — предикат особого субъекта, его глагол.
Важная роль молчания в текстах Аронзона отражена и в специфике применяемых версификаторских приемов. В стихотворении 1964 года «Паузы» Аронзон попытался создать художественную реальность, обойдясь вовсе без слов, — он определенным образом заполнил белый лист знаками «Ч» и тем самым сделал значимыми промежутки. Припомнив «Поэму конца» Василиска Гнедова, состоящую из названия и следующего за ним чистого листа, пустые страницы Лоренса Стерна в «Тристраме Шенди» или «Белое на белом» Малевича, мы понимаем направление авторского эксперимента (впрочем, в очередной раз убедившись, что поэтическое молчание нередко удается передать отчетливей, не избегая помощи слов).
В стихотворении «Пустой сонет» также используется выразительная сила «белого поля» как изобразительного аналога молчания — текст размещен в виде сходящейся спирали. Поэтическое впечатление от стихотворения подкрепляется физическим ощущением головокружения, возникающим при вращении перед глазами листа, текст сходится к центру, пока не упирается в прямоугольник незаполненного пространства.
Переживание слитности молчания с нетронутой белизной было присуще Аронзону и на более ранних этапах (ср. «там в немых зеркалах, одинаковых снежным покоем» — «Ночь в Юкках»), однако в последние годы оно становится более явственным и чаще находит адекватное поэтическое выражение.
Вплотную подведя словесность к ее внеязыковым истокам, Аронзон реставрирует синкретизм слова и изображения. Линии, размеры, фигуры, формы вторгаются в его поэзию, повышая роль чисто графических элементов стиха (это относится, главным образом, к четвертому периоду — отметим, в первую очередь, книгу «AVE»). В «Записи бесед» исключительно значимо размещение текста на странице. В стихотворении «Когда наступает утро — тогда наступает утро…» автор то отказывается от горизонтальной строки, заменяя ее «волной», то размеры шрифта постепенно уменьшаются от начала к концу, то строки объединены в «трехэтажный», как у Ильязда, стих. В дружеском послании «Сонет ко дню воскрешения Михнова Евгения» текст размещен по линии, вырисовывающей контур бутылки, а на свободном центральном поле помещается шуточное изображение Михнова.
Разумеется, не случайно творческий путь Аронзона прошел через область поэтического молчания. Присущий автору пафос сближения литературной и реальной действительности накладывает на художественное слово обязательство определенным образом реализоваться, в какомто смысле стать полноправным элементом реального мира, т. е. стать одновременно и не-словом, не только словом. Таким образом, к коренным особенностям поэтики Аронзона относятся как высокая ценность поэтического молчания, так и вторжение в его поэзию инородных элементов, в частности, изобразительного искусства.
Художественное слово у Аронзона, помимо особенной причастности поэтическому молчанию, обладает и соответствующими темпоральными характеристиками. «Твоё мгновенье — вечность», — пишет поэт в одном из стихотворений; «И какая это радость — день и вечность перепутать!» — вторят ему строки стихотворения «Ещё в утренних туманах…». А. Альтшулер на вечере памяти Аронзона справедливо заметил: «Для него существовал в общем-то один день, и этот один день раскрывался как бутон цветка»[45]. И действительно, высшие, самые подлинные проявления существования проходят для Аронзона sub specie aeternitatis — под знаком вечности. В «Отдельной книге» читаем: «Так наша жизнь превратилась в фотографию, которая никогда не станет достоянием семейного альбома». Поэтическое представление каждого из композиционных фрагментов поэмы «Вещи» по-прустовски очень подробно, замедленно; время кажется загустевшим, как струя смолы или меда. Чтение такой почти лишенной динамики «Вещи» оказалось бы унылым занятием, если бы чувство меры не заставляло автора всякий раз вовремя сменить изобразительный план. Причем эти смены подчинены вовсе не реальной хронологии,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.