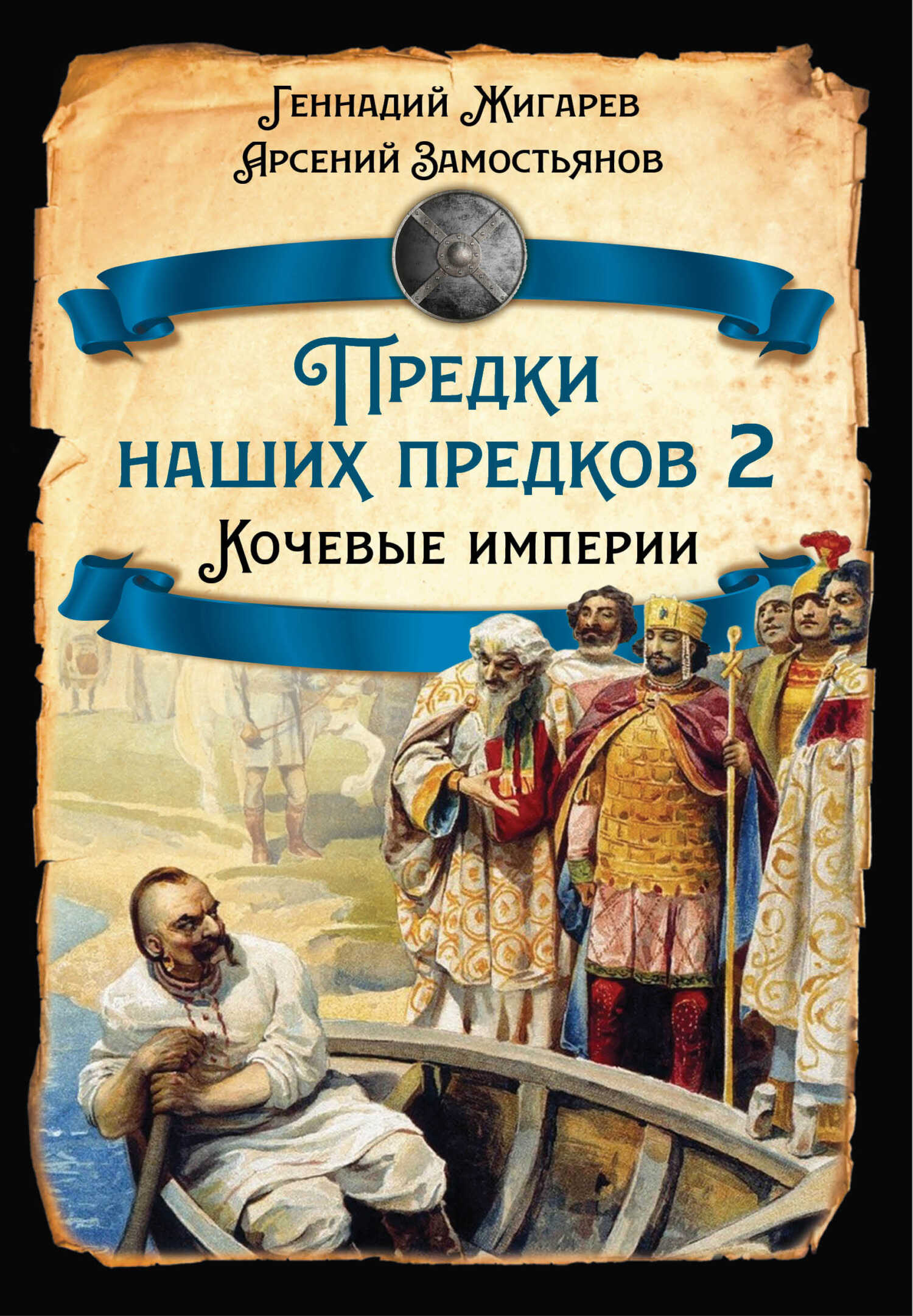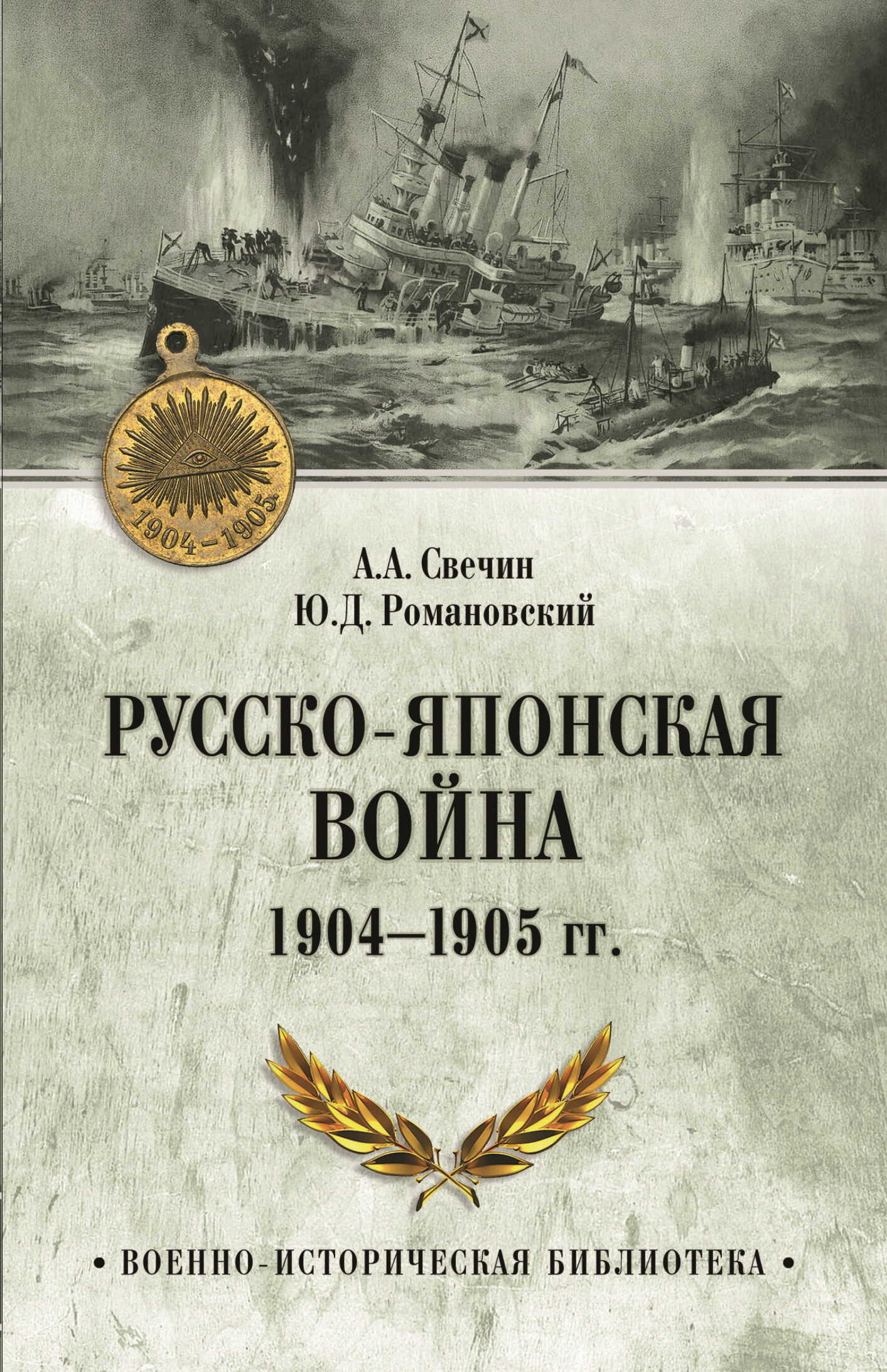Фронт и тыл Великой войны - Юрий Алексеевич Бахурин Страница 42
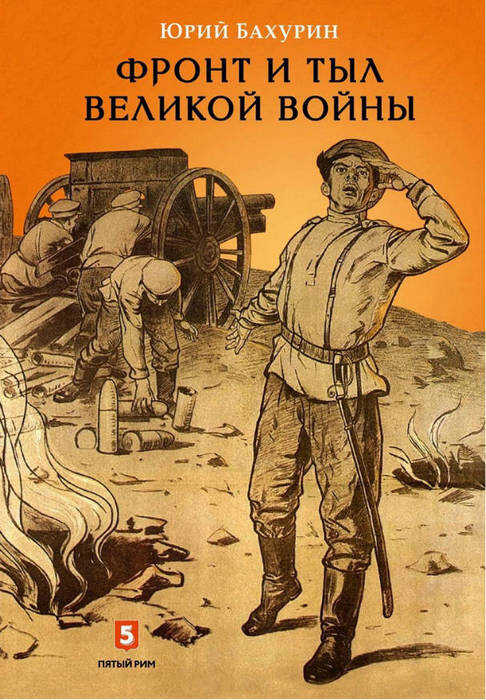
- Категория: Разная литература / Военная история
- Автор: Юрий Алексеевич Бахурин
- Страниц: 304
- Добавлено: 2025-02-11 09:12:00
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Фронт и тыл Великой войны - Юрий Алексеевич Бахурин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Фронт и тыл Великой войны - Юрий Алексеевич Бахурин» бесплатно полную версию:Книга Юрия Бахурина «Фронт и тыл Великой войны» — это интересный рассказ о малоизвестных по сей день вопросах и проблемах истории Первой мировой. Автор отвечает на многочисленные вопросы, некоторые из которых оказались вне поля зрения большинства отечественных исследователей: чем питались воины Русской императорской армии в Великую войну и — досыта ли? Соблюдался ли ими принятый в начале войны «сухой закон»? Суеверны ли были русские солдаты, и слухами о чем они делились друг с другом? Хватало ли им в 1914–1917 годах обуви? Применялись ли к ним телесные наказания? Бытовало ли в войсках рукоприкладство? Решались ли фронтовики на нанесение себе самим увечий с целью покинуть передовую? Существовали ли в пору Великой войны прообразы заградительных отрядов, пресекавшие огнём попытки бегства с поля боя? Что двигало солдатами, братавшимися с неприятелем? Как хоронили павших за веру, царя и Отечество — и скольких жизней лишилась Россия в беспощадном пламени Первой мировой?
Фронт и тыл Великой войны - Юрий Алексеевич Бахурин читать онлайн бесплатно
Впрочем, к тому моменту и сама Русская Православная Церковь вступила в полосу кризиса, из которой не выйдет при существовавшей власти. Кризис этот складывался из проблем на всех уровнях. Поданная депутатами Государственной Думы новому обер-прокурору Синода А. Д. Самарину 4 (17) августа 1915 года «Записка» обличала засилье монашества в Церкви, призывая реформировать ее: ограничить права епархиального руководства и его влияние на приходы, положение белого духовенства же — напротив, улучшить и усилить. Будучи опубликован, этот документ вызвал немалый резонанс. О приходской реформе говорилось все громче и отчетливее, но весной 1916 года она оказалась отложена на неопределенный срок — в том числе за несвоевременностью. Военное время сказывалось и на государственном ассигновании Церкви, каковое сокращалось, как и поступления из приходов, — ведь миряне в подавляющем большинстве своем тоже не богатели. Объем не терпящих отлагательства дел же только прирастал: чего стоили тысячи одних лишь заявлений о разводе, неизбежного следствия разрывающей семейные узы войны. Пренебрегать собственными принципами по столь острому вопросу Церковь не желала, но невиданному прежде объему административной работы утвержденные еще в 1869 году нормы ассигнования попросту не соответствовали. «Война не создавала ни одной из этих проблем, но сильно обостряла и политизировала их. Все это создавало фон революционных событий в самой церкви в 1917 г.», — подытоживает исследователь[400]. Поэтому нет причин удивляться словам «все свершается по Воле Божией» в послании пастве епископа Калужского и Боровского Феофана от 6 (19) марта 1917-го, его приветственной телеграмме председателю Государственной Думы Родзянко и устроенному калужским духовенством 12 (25) марта праздничному «Дню Свободы»[401]. Кстати, эта приветственная телеграмма была только одной из множества аналогичных, отправленных тому же Родзянко, Керенскому, председателю Совета министров князю Г. Е. Львову и обер-прокурору Святейшего Синода епархиальными съездами духовенства и мирян Астраханской, Бессарабской, Владикавказской, Вологодской, Воронежской, Гродненской, Грузинской, Гурийско-Мингрельской, Донской, Екатеринославской, Забайкальской, Киевской, Костромской, Курской, Могилевской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Омской, Оренбургской, Подольской, Полоцкой, Полтавской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Ставропольской, Тверской, Томской, Тульской, Харьковской, Ярославской епархий[402]…
Проблема сект серьезно беспокоила и светские власти. Летом 1916 года Департамент полиции разослал градоначальникам и губернаторам секретный циркуляр с требованием вести надзор в отношении «рационалистических сект» и выпалывать ростки «вероучения антимилитаристических идей». Вплоть до 1917 года военно-окружные суды вынесли обвинительные приговоры 837 людям, отвергавшим армейскую службу по религиозным соображениям[403]. Но в 1916 году в Москве состоялся особенно примечательный судебный процесс.
Еще в начале Первой мировой войны секретарь Л. Н. Толстого В. Ф. Булгаков составил антивоенное воззвание «Опомнитесь, люди-братья!». Под манифестом охотно подписались и другие толстовцы, всего 49 человек до момента ареста нескольких из них, включая автора 27 октября (9 ноября) 1914 года. Тульское губернское жандармское управление вело следствие по этому делу порядка восьми месяцев, а затем передало его в Московский военно-окружной суд. Толстовцам, согласно статье 129 Уголовного уложения, инкриминировались агитация и обнародование материалов, «возбуждающих… к учинению бунтовщического или изменнического деяния…»: поводом для обысков и задержаний послужила попытка расклеить экземпляры еще одного воззвания у входа на железопрокатный завод. Тульский губернатор А. Н. Тройницкий настаивал на суде по законам военного времени[404]. До слушаний дело дошло только весной 1916 года. На суде председательствовал крупный военный юрист генерал-майор С. С. Абрамович-Барановский, обвинение поддерживал А. Е. Гутор — в будущем генерал-лейтенант Русской армии, командующий 11-й армией и армиями всего Юго-Западного фронта, но тогда еще полковник. Линию защиты вели сливки московской адвокатуры. В процессе успели поучаствовать будущий председатель Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Н. К. Муравьев, один из адвокатов Менделя Бейлиса, а в 1917 году — комиссар Временного правительства В. А. Маклаков, еще не чаявший министерского портфеля П. Н. Малянтович. Пресса, разумеется, тоже не оставалась равнодушной к громкому делу.
Усилия защитников, прежде всего Муравьева, увенчались успехом. Подсудимых выпустили под залог от 500 до 1000 рублей: судья переквалифицировал дело, на смену «изменническим деяниям» пришли «религиозные побуждения». Моральную поддержку и свидетельские показания подсудимым обеспечили дети и близкие друзья графа Толстого. Один из них, В. Г. Чертков, 26 марта (8 апреля) 1916 года на заседании суда произнес целую речь, не привести фрагмент стенограммы которой я не могу: «.Доброжелательное отношение этих людей соответствует истинным выгодам государственных начал, правильно и просвещенно понятых. При этом если эти люди опасны для правительства, то это признак того, что правительство так слабо, что оно должно не сегодня-завтра рушиться от 28 подписей… Нечего опасаться к этим людям гуманитарного отношения. Боязнь этих людей — только признание шаткости, слабости и неустойчивости государства. А с другой стороны, малейшее преследование этих людей и нетерпимость к ним усиливает значение их поступка, а лишь только вы их сажаете в тюрьму, вы тем самым пропагандируете их поступок»[405].
1 (14) апреля 1916 года имевшие отношение к первому манифесту («Опомнитесь, люди-братья!») оказались оправданы. Авторам и распространителям текста «Милые братья и сестры!» зачли срок предварительного заключения. Защитники имели полное право праздновать победу. Трое суток спустя оправдательный вердикт суда был опротестован прокурором…
И здесь, как всегда — на самом интересном месте, начинается политика.
Старец Григорий: сплетни, пошатнувшие престол
Суеверия и слухи в воюющей России, главным образом в тылу, отнюдь не сводились к вере в талисманы, пророчества и приметы, словом, сверхъестественное. Они имели не только абстрактное, но и вполне конкретное политическое приложение. О святых подле генералов судачили куда реже, чем об императорской фамилии, тем более что и Николай II, и Александра Федоровна были не чужды веры в сверхъестественное. В период последнего царствования к престолу оказался весьма близок целый ряд мистиков, медиумов и оккультистов, а в действительности — обыкновенных проходимцев, коим императорская чета уделяла исключительное внимание.
Например,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.