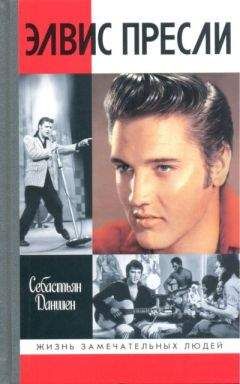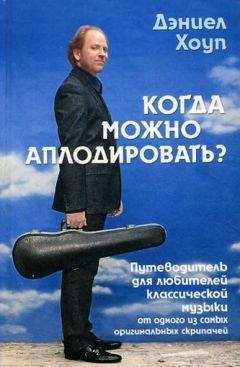Ганс Галь - Брамс. Вагнер. Верди Страница 39
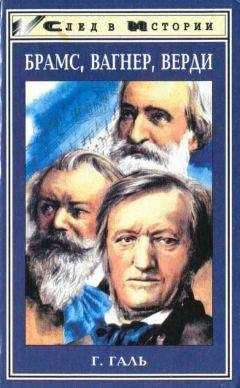
- Категория: Разная литература / Музыка, музыканты
- Автор: Ганс Галь
- Год выпуска: -
- ISBN: -
- Издательство: -
- Страниц: 154
- Добавлено: 2020-11-01 10:38:24
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Ганс Галь - Брамс. Вагнер. Верди краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Ганс Галь - Брамс. Вагнер. Верди» бесплатно полную версию:Автор книги — старейший австрийский музыковед и композитор, известный главным образом своими исследованиями творчества венских классиков.
Рассказывая о жизненном пути каждого из своих героев, Г. Галь подробно останавливается на перипетиях его личной жизни, сопровождая повествование историческим экскурсом в ту эпоху, когда творил композитор. Автор широко привлекает эпистолярное наследие музыкантов, их автобиографические заметки.
Вторая часть каждого очерка содержит музыковедческий анализ основных произведений композитора. Г. Галь излагает свою оценку музыкального стиля, манеры художника в весьма доходчивой форме живым, образным языком.
Книгу открывает вступительная статья одного из крупнейших советских музыковедов И. Ф. Бэлзы.
Рекомендуется специалистам-музыковедам и широкому кругу читателей.
Ганс Галь - Брамс. Вагнер. Верди читать онлайн бесплатно
В отношении технических погрешностей Брамс был беспощаден. Но молодой Вольф, который, оказавшись совсем без средств, вел отчаянную борьбу за существование, лишь смертельно оскорбился, выслушав равнодушную — и совершенно бесполезную для него — рекомендацию Брамса. Позднее стали известны высказывания Брамса, из которых явствует, что он к тому времени давно уже простил автору песен на стихи Мёрике[109] его критические эскапады юных лет и ценил глубину и поэтичность его таланта. Однако в ту пору, уже миновав свое шестидесятилетие, Брамс все более замыкался в своем одиночестве и становился почти недоступен. К тому же он был глубоко разочарован тем направлением, которое приняло развитие музыки. Рихард Шпехт описывает забавную сценку, разыгравшуюся в Ишле между Брамсом и юным Густавом Малером во время прогулки вдоль берега Трауна. Брамс говорил о неудержимом падении музыки и о том, что он, видимо, последний из тех, кто точно знает, что такое музыкальное совершенство. «И тогда Малер, — рассказывает Шпехт, — вдруг схватил его за руку и, оживленно жестикулируя, стал показывать на несущийся внизу поток: «Смотрите, герр доктор, смотрите!» — «Ну, что еще?» — спросил Брамс. «Вон там — видите? — бежит последняя волна». На что Брамс буркнул: «Ну да, конечно; все дело, пожалуй, только в том, куда она прибежит — в море или в болото?»
Ответить на вопрос такого рода невозможно. Пока что, однако, Брамс прочно занимает свое место в качестве «последнего из классиков». Ибо по его стопам пока еще не пошел никто.
Тайны творческой лаборатории
Знакомство с творческой лабораторией художника всегда захватывает. Законченное произведение — это чудо. Однако лишь тогда, когда видишь механизм его возникновения, когда хоть в какой-то мере постигаешь ту часть творческого процесса, что является делом сознания, — лишь тогда проникаешь и в самую суть этого грандиозного свершения (которое, собственно, в том и состоит, чтобы из бесчисленных возможностей выбрать одну — единственно правильную). И лишь тогда понимаешь, что и божественное начало в творении рук человеческих — не просто дар, но результат напряженного, целенаправленного труда. В своем экземпляре биографии Моцарта, написанной Отто Яном[110], Брамс дважды подчеркнул следующую фразу: «В работе художника собственно творчество — как открытие — никогда нельзя отделить от исполнения, воплощения».
Единственным из великих мастеров, кто предоставляет богатейший материал для подобных штудий, является Бетховен. Благодаря благословенной небрежности, в силу которой он никогда не приводил в порядок груды своих бумаг, после него остались ценнейшие россыпи черновых набросков, позволяющие наглядно показать процесс возникновения многих его произведений. Брамс с живейшим интересом следил за работой своего друга Ноттебома, в течение многих лет занимавшегося изучением бетховенских черновиков, и именно благодаря его усилиям блистательные труды Ноттебома увидели свет. Одной из особенностей Бетховена была его привычка к подробнейшим предварительным наброскам. Однако процесс, который при этом удается наблюдать, видимо, вообще типичен для композиторского творчества, свершающегося обычно в уме и не оставляющего письменных свидетельств, не говоря уже о естественной склонности художника уничтожать подобные свидетельства.
У Брамса была такая склонность, и потому от его набросков осталось совсем немногое. Иногда об особенностях его работы можно судить по поправкам в рукописях — иной раз весьма поучительным. В остальном, однако, применительно к Брамсу в этом смысле приходится довольствоваться теми редкими случаями, когда какое-нибудь его произведение — или фрагмент произведения — существует в различных вариантах. Однако, если имеешь дело с Брамсом, узнать, через какие стадии проходил процесс его сочинительства, так и не удается. Именно в этом плане бетховенские черновики дают особенно богатый материал. Они-то как раз ясно показывают, что в большинстве случаев мелодия, тема, мотив проходят долгий путь развития, прежде чем находка композитора обретает свою окончательную, адекватную ее характеру форму.
То, что можно было бы назвать начальной идеей, представляет собой — в той или иной степени — импровизацию. Фантазия композитора работает над этой идеей, по-разному поворачивая, расширяя, варьируя ее, пока она не получает форму, в наибольшей мере соответствующую поставленной цели. Работа эта совершается за счет критического чутья композитора, в котором он должен быть уверен. По этому поводу Брамс однажды в беседе с Георгом Геншелем сказал: «Творчества без тяжкого труда не бывает. То, что обычно называют находкой, музыкальной идеей, — это поначалу результат озарения, нечто такое, за что я не несу никакой ответственности и в чем нет моей заслуги. Это подарок, дар, который я имею право чуть ли не презирать, пока мой труд не превратит его в мою собственность. И с этим никак нельзя спешить. Это как с посеянным зернышком, которое прорастает и развивается само собой». В одном Брамс никогда не сомневался: что именно такие находки и составляют субстанцию собственно музыки, что они — душа произведения, самое ценное в нем.
Именно об этом можно говорить применительно к единственному крупному произведению Брамса, которое он полностью переработал, — фортепианному трио си мажор, написанному в 1854 году. То обстоятельство, что оно было опубликовано спустя двадцать шесть лет, превратило это сочинение в подлинный компендиум зрелого мастерства композитора; «новая редакция» — это осуществленная на практике критика юношеского произведения, которая беспощадно вскрывает все его слабости и извлекает из них уроки. В итоге три из четырех частей подверглись кардинальной переделке. Все, что в них осталось от прежнего, — это великолепная, вдохновенная начальная тема, никак не более того. Лишь Скерцо счастливо прошло испытания, отделавшись всего только новой кодой. Чудо — поскольку другого подобного случая музыка просто не знает — состоит в том, что в новой редакции нигде, ни в одном такте не чувствуется нарушения стиля; и в новой форме, со всем тем новым материалом, который потребовался взамен старого, непригодного, юношеская избыточность чувств, свойственная первоначальной редакции, по-прежнему не знает преград, образный мир произведения остается неизменным. Невольно напрашивается сравнение с парижской редакцией вагнеровского «Тангейзера», где все добавления, и прежде всего вакханалия в начальной сцене, по стилю решительно отличаются от первоначального варианта.
Трио си мажор, как уже говорилось, — раннее сочинение. Законченное незадолго до катастрофы с Шуманом, оно, собственно, завершает юношеский период творчества Брамса. Вдохновенное, мечтательно-романтичное, оно явно обнаруживает также изъяны еще не вполне сложившейся техники, и прежде всего в том, что композитор еще не в состоянии дать простор своей творческой энергии на всех уровнях столь развернутой формальной структуры. Каждая из трех частей, подвергшихся позднее кардинальной переработке, начинается великолепной, словно изваянной из цельного куска темой, и каждый раз молодой Брамс пасует перед задачей противопоставить этому вдохновенному началу нечто равноценное. В Скерцо эта проблема оказалась менее сложной — ввиду большей лаконичности формы, для завершенности которой здесь вполне хватает одной изумительной скерцозной темы; в следующем затем трио, построенном на такой же счастливой мелодической находке, также используются все преимущества сжатой, четко очерченной и потому не создающей особых трудностей формы. Зрелая мудрость мастера в новой редакции выявилась в том, что он сохранил в неприкосновенности некоторую наивность звучания, причем даже там, где ее легко было устранить, в ничем не осложненной гомофонности главной темы, словно упоенной своей мелодичностью, и особенно там, где уже не камерное, но чисто оркестровое тремоло скрипки сопровождает триумфальное возвращение скерцозной мелодии. Непосредственность, которая обычно так редка в произведениях Брамса, становится здесь добродетелью. В этой части изменения коснулись лишь второстепенных технических деталей. Правке, притом весьма тактичной, подвергся только заключительный раздел, где молодому композитору не удалось подвести стремительное скер-цозное движение к завершающему, снимающему напряжение и будто истаивающему звучанию. Его кода слишком преднамеренна, слишком обстоятельна, и та естественная, органичная концовка, которая появляется в новой редакции взамен первоначальной, может служить блестящей иллюстрацией тому, как решает подобную задачу подлинный мастер.
С остальными частями дело обстоит значительно сложнее, и здесь мы почти вплотную подходим к тому, что, собственно, и определяло характер творчества Брамса. Как музыка Брамса, так и его устные и письменные высказывания со всей очевидностью демонстрируют, насколько глубоко проникся он сознанием своей миссии как продолжателя всего того, что он разумел под понятием классической традиции. Непосредственно связано с этой установкой и свойственное ему смирение, по поводу которого он однажды недвусмысленно высказался в разговоре с Геншелем: «Чего я никак не могу понять, так это тщеславия нашей композиторской братии. Как мы, люди, став на ноги, высоко вознеслись над червем ползущим, так и боги стоят высоко над нами».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.