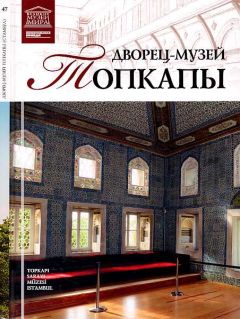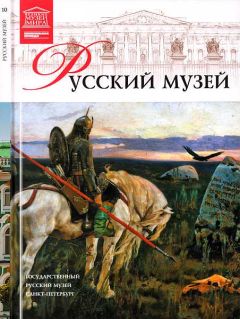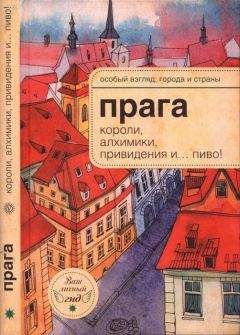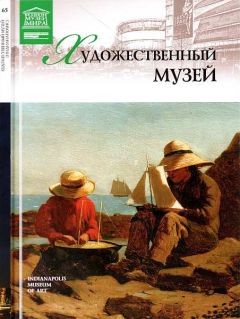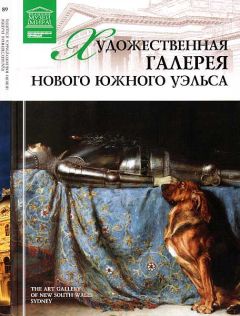Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья - Федор Сергеевич Корандей Страница 49
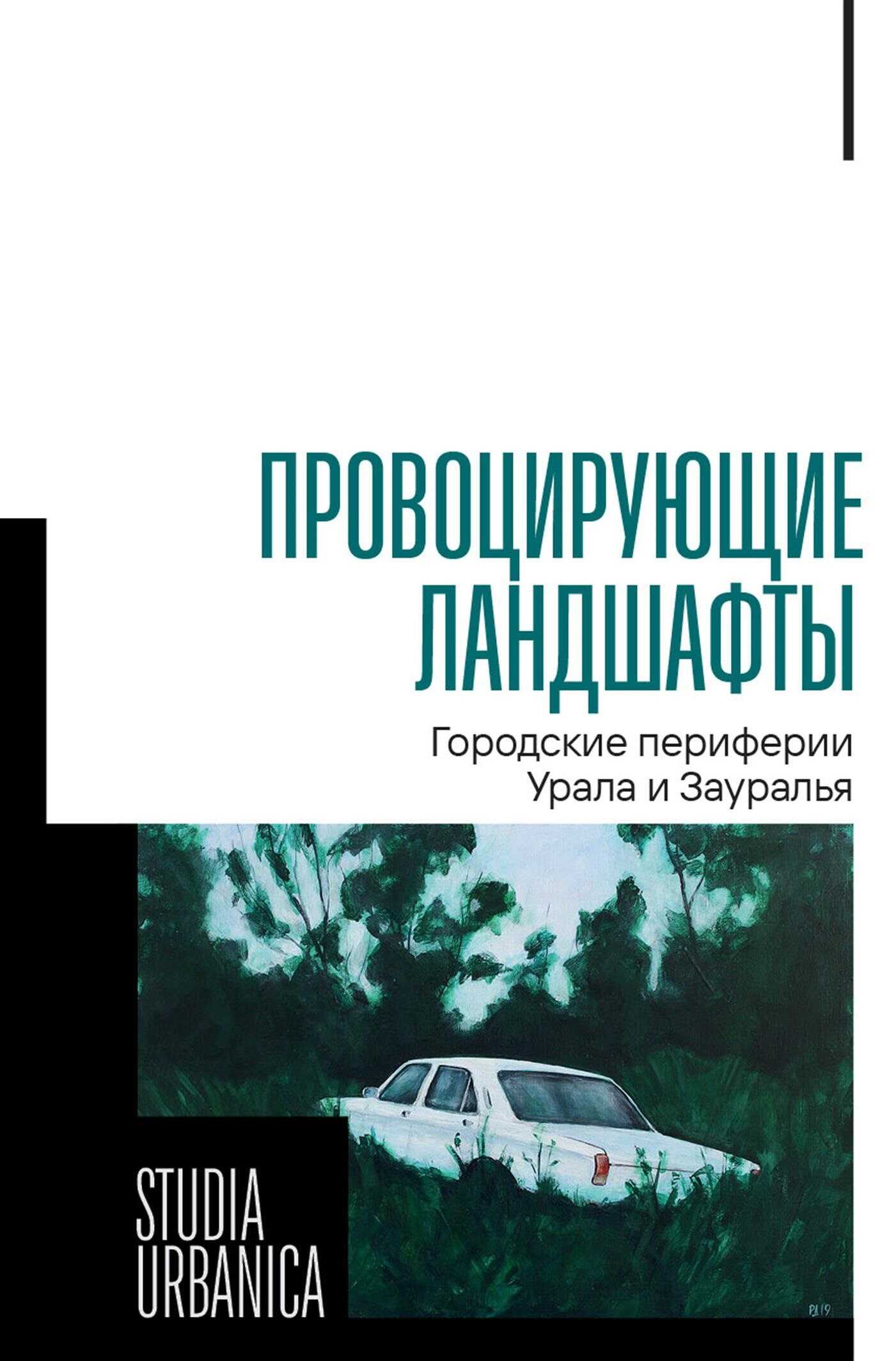
- Категория: Разная литература / Гиды, путеводители
- Автор: Федор Сергеевич Корандей
- Страниц: 72
- Добавлено: 2025-10-02 14:00:46
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья - Федор Сергеевич Корандей краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья - Федор Сергеевич Корандей» бесплатно полную версию:В 2020–2022 годах социальные антропологи, географы и историки из Тюмени и Екатеринбурга совершили серию экспедиций по местам Урала и Западной Сибири. Их целью было изучение повседневного ландшафта как жизненно необходимого условия человеческого бытия, ключа к культуре, пространства обыденных действий, смыслов и эмоций. Особый акцент делался на том, как люди представляют себе и воплощают на практике возможности мест, в которых проживают. Участники экспедиций следовали принятым повседневным путям, проводя пешеходные интервью с местными жителями, выявляя в ходе обсуждения с ними территориальную иерархию, критерии выделения местных районов, емкость каналов коммуникации, режимы мобильности, нарративы идентичности, получая опыт воплощенного в материальности и телесности движения. Результатом экспедиций и дискуссий с близкими по духу коллегами стал сборник очерков, представляющий собой своеобразный путеводитель по повседневным уральским и сибирским ландшафтам. Эти места предстают в исследовании, с одной стороны, как типичные, созданные характерными для региона природопользованием, промышленностью, сезонной мобильностью, сельской депопуляцией и туристическим бизнесом, а, с другой – совершенно конкретными, обладающими неповторимой историей, населением и обликом. При разнообразии тем и масштабов, очерки объединяет стремление их авторов задействовать не только академические, но и литературные способы репрезентации, изобразить увиденное в его живости и непосредственности.
Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья - Федор Сергеевич Корандей читать онлайн бесплатно
Ландшафты депопуляции
Татьяна Быстрова
Глава 10. Без центра: негативные аффордансы сельских поселений
Два… практически исключающих друг друга призыва звучат время от времени… За первым из них стоит ностальгическое стремление увидеть сельскую Россию такой, какой она была лет 90 назад (в три-четыре раза большее, чем сейчас, количество деревень с крестьянскими семьями из пяти-восьми человек); за вторым – давно отвергнутая жизнью утопическая идея сплошной урбанизации сельской местности… Все эти мечты разбиваются о суровую действительность, предопределенную предшествующим развитием российской деревни и особенно ее развитием в советское время. …Путь, пройденный российской деревней в последние десятилетия, совершенно изменил ее облик.
Д. Лухманов. Поселенческая и расселенческая структура сельской России: изменения последних десятилетий (1996)
Подобно представителям аксиологии, в свое время дискутировавшим о том, могут ли ценности быть отрицательными, мы задаемся вопросом о негативных аффордансах, перекрывающих миру и человеку в нем ту или иную возможность. В нашем случае речь пойдет о возможностях сельского поселения сохранять свою устойчивость, то есть не деградировать структурно, производить и воспроизводиться без вреда окружающей природе, не сокращаться в пространстве и не исчезать. Дополняя концепцию устойчивого развития, скажем, что понимаем под устойчивостью не только достижение баланса между социальной, экономической и экологической сферами, но и поддержание особого уровня предметно-пространственной организации. Устойчивость поселения, с одной стороны, свидетельствует о том, что его структура обладает некоторыми свойствами живой системы (в частности достаточной степенью организованной сложности на разных уровнях и включением в свой состав структур других уровней), с другой – о том, что оно отвечает потребностям и действиям человека [Салингарос 2016].
Очень важны оба этих условия. В случае с социальными объектами одной организованной сложности недостаточно. Неверно спроектированная дверь не сможет показать человеку, в какую сторону она отворяется, а ручка двери не даст ему информации о том, что с ней делать – давить или крутить. Этот знаменитый пример ученика Дж. Гибсона, когнитивиста и теоретика дизайна Дональда А. Нормана [Норман 2021: 150] распространим на среды и объекты самого разного масштаба. Когда мир не предлагает, человек не делает, и это вполне закономерно. Сам Дж. Гибсон, говоря о предрасположенностях окружающего мира по отношению к тем, кто в нем обитает, подчеркивал, что аффорданс – это нечто, относящееся «одновременно и к окружающему миру, и к животному» [Гибсон 1988: 188][12]. Этот принцип в еще большей степени приложим к другим плодам рук человеческих – вещам, инструментам, архитектуре, которые являются аккумуляторами культурной памяти, интеллекта, логики их создателей.
…Мы способны, на более основательном по сравнению с письменностью уровне, запечатлеть на местности геометрический рисунок, отражающий аналогичные информационные структуры нашего сознания, —
отмечает Н. Салингарос, говоря о сообщениях, которые архитекторы, проектирующие наборные мостовые, сами того не осознавая, посылают тем, кто потом по ним ходит.
Поскольку геометрический рисунок не нуждается в разговорном языке для передачи смысла, он универсален, то есть может быть до какой-то степени воспринят любым разумом, который способен его воспринять. Можно утверждать, что геометрический рисунок – это универсальный визуальный язык (перевод наш. – Т. Б.) [Salingaros 2016: 195].
В нашем случае такой универсальный язык формируется под влиянием исходных природных условий, а позднее приобретает относительную самостоятельность и что-то начинает говорить сам[13] [Дорофеев 2020]. Вместе с тем мы привыкли считать, что в современные времена ведущая роль в формировании такого языка среды принадлежит административным или трудовым процессам. Но можно ли отдавать им однозначный приоритет всегда, особенно если речь идет о сельской местности?
И развитие, и деградацию сельского пространства закономерно увязывают со свойствами системы сельского расселения. При этом чаще всего, причем не только в России, те, кто говорит об упадке или неустойчивости сельских поселений, не подвергают сомнению представления об их структуре, которые существуют в нашем сознании как бы априорно, «естественным» образом. Согласно таким представлениям, центром поселения, гласно и негласно, объявляется место, близкое к середине населенного пункта и заключающее в себе администрацию, магазин, воинский мемориал и иногда школу. Это место может пустовать, быть безлюдным, депрессивным, замусоренным, но в том, что это и есть центр поселения, как правило, не сомневается никто, что несколько мешает анализу реального положения дел.
Новые идеи в этой области [Левченков 2011; Лухманов 1996; Шелудков Орлов 2019] формируются медленно и попадают на страницы академических публикаций с большим запозданием по отношению к тому, что происходит в ландшафте. Нам кажется продуктивным замечание социолога С. В. Цапка о том, что базовые ценности жителей сельских поселений являются следствием поселенческой структуры, конституирующей определенный образ жизни. Разрушение этого образа жизни
в результате попыток неразумной модернизации… ведет не только к деформации системы социокультурных функций поселенческой структуры общества, но и к более масштабным последствиям – разрушению и деградации сельского социума вообще [Цапок 2009: 9].
Вероятно, справедливо и суждение о том, что негативные трансформации поселения оказывают влияние на коллективный эмоционально-духовный настрой и поступки людей. Соответственно, деградация села, отток населения могут быть описаны не только в связи с их внешними причинами, но и как проекция внутренних изменений.
Предмет этой работы – пространственно-планировочная структура сельских поселений Урала, исследуемая не в привычном для архитекторов градостроительно-картографическом аспекте, но как единство, которое определяется передвижениями местных жителей, приезжих и проезжающих. Хотя, находясь на местности, уточнять некоторые вещи по карте очень удобно, мы будем рассматривать эту структуру в человеческом масштабе – никто из нас не видит села и деревни исключительно с высоты птичьего полета. Оставим за пределами нашего эссе придорожные поселения, расположенные на больших трассах (Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Челябинск и т. п.), и сосредоточимся на деревнях и селах, менее зависимых от современных транспортных потоков. В таких местах отчетливей проявлены внутренние факторы их существования. Таких сел много, например, в пространстве от Михайловска и Арти до границы Свердловской области с Башкирией; на границе Свердловской и Челябинской областей – от Тюбука до Каменска-Уральского; вдоль неоживленных дорог, соединяющих Реж и Невьянск, Талицу и Алапаевск, Ирбит и Артемовский, Богданович и Камышлов. Чтобы избежать встречи с эффектом вторичной рурализации, мы по возможности «обходим стороной» расположенные вблизи от крупных центров деревни или села с преобладающим дачным населением (илл. 10.1). Как следует из такого анализа, мы можем (или, скорее, нам приходится) учитывать темпоральную составляющую сельской структуры, скрывающую в себе аффордансы, которым не суждено было воплотиться в жизнь, нереализованный потенциал поселений, нераскрытые темы, несвершившиеся дела.
Главный вопрос, неизменно интересующий нас в любом нашем путешествии, – насколько устойчива сельская поселенческая система и возможно ли рассуждать о
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.