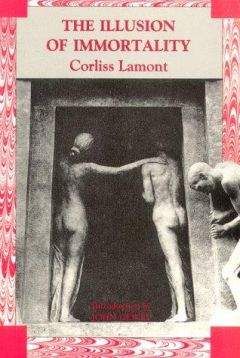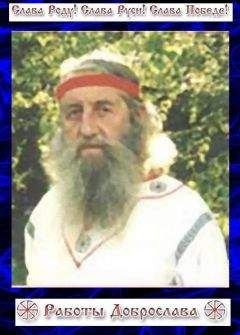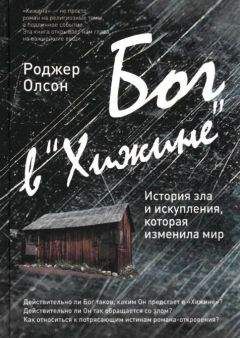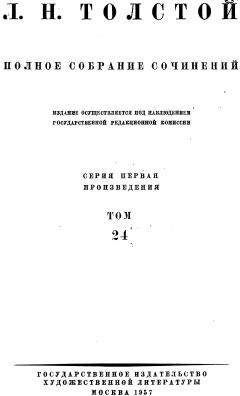Филип Шафф - История христианской Церкви Том II Доникейское христианство (100 — 325 г. по P. Χ.) Страница 81
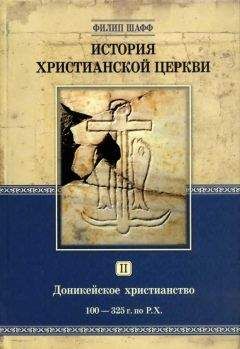
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение
- Автор: Филип Шафф
- Год выпуска: -
- ISBN: нет данных
- Издательство: -
- Страниц: 232
- Добавлено: 2020-11-15 11:02:43
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Филип Шафф - История христианской Церкви Том II Доникейское христианство (100 — 325 г. по P. Χ.) краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Филип Шафф - История христианской Церкви Том II Доникейское христианство (100 — 325 г. по P. Χ.)» бесплатно полную версию:Второй период церковной истории, от смерти апостола Иоанна до конца гонений, или до возвышения Константина, первого императора–христианина, — это классический век гонений со стороны язычников, век мученичества и героизма христиан, светлого жертвования земными благами и самой жизнью ради небесного наследства. Это постоянный комментарий к словам Спасителя: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков»; «не мир пришел Я принести, но меч». Простая человеческая вера не выдержала бы такого испытания огнем в течение трехсот лет. Окончательная победа христианства над иудаизмом, язычеством и самой могущественной из империй древнего мира, победа, одержанная не физической силой, но моральной силой долготерпения и устоя–ния, веры и любви, — одно из возвышеннейших явлений истории, одно из наиболее веских свидетельств в пользу божественности и нерушимости нашей веры.Но не менее возвышенными и значительными были интеллектуальные и духовные победы христианской церкви в этот период — победы над языческими наукой и искусством, над вторжениями гностической и евио–нитской ереси, над явными и тайными врагами, великое противостояние с которыми породило многочисленные труды в защиту христианской истины и способствовало ее осмысливанию.
Филип Шафф - История христианской Церкви Том II Доникейское христианство (100 — 325 г. по P. Χ.) читать онлайн бесплатно
Организованная общинная благотворительность в доникейскую эпоху позволяла удовлетворять все непосредственные нужды членов церкви. Когда государство приняло христианство, появились постоянные благотворительные организации, заботившиеся о бедных, больных, странниках, вдовах, сиротах и беспомощных стариках[712]. Первое ясное свидетельство о существовании такого рода организаций мы находим в эпоху Юлиана Отступника, который пытался остановить развитие христианства и оживить язычество, велев Арсацию, верховному жрецу Галатии, учредить в каждом городе Xenodochium, поддерживаемый на средства государства и частные пожертвования; ибо, сказал он, постыдно, что язычники остаются без поддержки со стороны своих, в то время как «среди иудеев нет ни одного нищего, а нечестивые галилеяне (то есть христиане) кормят не только своих, но и наших бедных». Несколько лет спустя (370) мы читаем о знаменитом госпитале в Кесарии, основанном святым Василием и названном в его честь «Василиадой», и о похожих учреждениях по всей провинции Каппадокии. Одно такое заведение было в Антиохии во времена Златоуста, который проявлял практический интерес к нему. В Константинополе было целых тридцать пять госпиталей. На Западе количество таких учреждений быстро увеличивалось в Риме, на Сицилии, на Сардинии и в Галлии[713].
§101. Молитва и пост
В том, что касается важности и необходимости молитвы, как пульса и термометра духовной жизни, древняя церковь была единодушна. Здесь соглашались и самые простые, и самые просвещенные христиане, апостольские отцы церкви, ревностные апологеты, реалистически настроенные африканцы и идеалисты–александрийцы. Тертуллиан считает молитву ежедневной жертвой христианина, оплотом веры, оружием против всех врагов души. Верующий не должен ни совершать омовения, ни принимать пищу, не помолившись; ибо питание и освежение духа должно предшествовать телесному, небесное должно ставиться впереди земного. «Молитва, — говорит он, — очищает от греха, отгоняет искушения, ослабляет гонения, утешает отчаявшихся, благословляет возвышенные умы, наставляет заблудших, успокаивает волнующихся, насыщает бедных, направляет богатых, поднимает павших, поддерживает колеблющихся, бережет тех, кто стоит». Киприан требует молиться днем и ночью; указывает на небеса, где мы будем непрерывно молиться и благодарить. Однако этот отец церкви уже впадает в противоречащее Евангелию заблуждение, рассматривая молитву как заслугу и уплату долга перед Богом[714]. Климент Александрийский воспринимает жизнь истинного христианина как непрерывную молитву. «Он будет молиться везде, пусть не открыто, в глазах толпы. Даже когда он идет, разговаривает с другими, молчит, читает, трудится, он все время молится. И хотя он общается с Богом только в тайниках своей души и взывает к Отцу только тихим вздохом, Отец рядом с ним». Ту же самую мысль мы встречаем у Оригена, который с энтузиазмом рассуждает о могущественном внутреннем и внешнем воздействии молитвы и, при всей своей невероятной учености, считает молитву единственным ключом к духовному значению Писания.
Распорядок жизни человека, однако, требует уделять молитве специальное время, свободное от каждодневных занятий. Христиане обычно следовали иудейскому обычаю и выделяли для молитвы часы девятый, двенадцатый и третий, что соответствовало также распятию Христа, Его смерти и Его снятию с креста; утренний крик петухов и наступление полуночи также рассматривались как призывы к молитве.
С молитвами о собственном благополучии христиане сочетали ходатайства обо всей церкви, обо всех людях, особенно больных и нуждающихся, и даже о неверующих. Поликарп призывает филиппийскую церковь молиться обо всех святых, о царях и правителях, ненавистниках и гонителях, а также о врагах креста. «Мы молимся, — говорит Тертуллиан, — даже за императоров и их министров, за обладающих властью на земле, о покое всех людей и об отсрочке конца света».
Наряду со свободными излияниями чувств, без которых невозможно живое благочестие, мы можем предположить, что, по примеру иудейской церкви, существовали и фиксированные образцы молитвы, особенно такие, которые легко было запомнить и нетрудно произносить. Известные «ex pectore» и «sine monitore» у Тертуллиана не доказывают обратного, ибо молитва, выученная наизусть, может в то же время исходить от сердца, а знакомый псалом или гимн может читаться или петься каждый раз с новым чувством. Нет никаких сомнений в том, что в древней церкви повсеместно использовалась Господня молитва в домашнем и публичном поклонении. «Дидахе» (гл. 8) призывает произносить ее три раза в день. Тертуллиан, Киприан и Ориген посвятили ей специальные трактаты. Они считали ее образцовой молитвой, которую Господь предписывал всей Церкви. Тертуллиан называет ее «регулярной и привычной молитвой, кратким содержанием всего Евангелия и основой всех остальных молитв христиан». Однако использовали ее только полноправные члены церкви, поскольку молящийся обращается в ней к Богу как Его полноправный сын, а ее четвертая просьба воспринималась в мистическом смысле, как относящаяся к вечере Господней, и потому не подходила для новообращенных.
Что касается положения молящихся, то они стояли прямо или на коленях, подняв глаза к небу или закрыв их, вытянув руки вперед или вверх, что считалось наиболее подходящими положениями для выражения смирения духа и устремления души к Богу. В воскресенье было принято стоять в знак праздничной радости по поводу воскресения из греха и смерти. Однако единообразного закона в этом плане не существовало. Ориген говорит, что самое главное — устремление души к Богу и смирение сердца перед Ним. Если того требуют обстоятельства, вполне можно молиться сидя, или лежа, или занимаясь делами.
По иудейскому обычаю, пост часто был связан с молитвой, чтобы ум, свободный от земных проблем, мог, ни на что не отвлекаясь, обратиться к созерцанию божественного. Сами апостолы иногда прибегали к этому здоровому упражнению[715], хотя и не нарушали евангельской свободы превращением его в закон. Фарисеи имели обыкновение поститься два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, христиане же выбрали среду и особенно пятницу как дни умеренного поста[716], или воздержания от мясного, в память о страстях и распятии Иисуса. Они делали это на основании слов Господа: «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься»[717].
Во II веке появился также обычай четыредесятницы, поста перед Пасхой, который, однако, в разных странах отличался по продолжительности; в некоторых случаях этот пост длился сорок часов, в некоторых — сорок дней или хотя бы несколько недель. Вероятно, не менее древними являются ночные посты, или бдения перед самыми важными праздниками, основанные на примере Господа и апостолов[718]. Четверные посты[719] — более позднего происхождения, хотя они также основаны на обычаях иудеев после изгнания. В честь особых случаев епископы назначали чрезвычайные посты, а сэкономленные средства тратили на благотворительность; часто такой обычай становился благословением для бедных. Но здесь рано начали ощущаться иерархическое высокомерие и иудейский формализм, ограничивавшие свободу христианина вплоть до полного ее уничтожения[720].
Наиболее строгим было отношение монтанистов. Помимо обычных постов, они соблюдали специальные так называемые Xerophagiae (сухоедения)[721] — двухнедельные периоды, в течение которых следовало есть только сухую, то есть невареную пищу, хлеб, соль и воду. Католическая церковь, сохранившая верное отношение к вопросу, отказалась санкционировать эти эксцессы как общее правило, но разрешила аскетам доводить свои посты до крайности. Один лионский исповедник, например, жил лишь на хлебе и воде, но оставил свои строгие обычаи, когда ему напомнили, что других христиан оскорбляет его презрение к Божьим дарам.
Возражая против частого преувеличения ценности поста, Климент Александрийский цитирует слова Павла: царство Божье не в еде и питье и не в воздержании от вина и мяса, но в праведности, мире и радости в Святом Духе.
§102. Отношение к мертвым
См. гл. VII о катакомбах.
Благочестивая забота живых людей о дорогих их сердцу усопших коренится в благороднейших инстинктах человеческой природы, она встречается среди всех народов, древних и современных, даже среди варваров. Отсюда общий обычай сопровождать похороны торжественными обрядами и молитвами и закреплять за могилами статус священности и неприкосновенности. Нарушение покоя умерших и разграбление могил считалось святотатством и наказывалось по закону[722]. Никакие традиции и законы не считались среди египтян, греков и римлян более священными, чем те, которыми охранялись и защищались тени усопших, не способных повредить никому из живущих. «В народе распространено верование, — говорит Тертуллиан, — что души не могут попасть в Гадес, не удостоившись погребения». Покойный Патрокл является во сне своему другу Ахиллесу и просит его позаботиться о своем скорейшем захоронении:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.