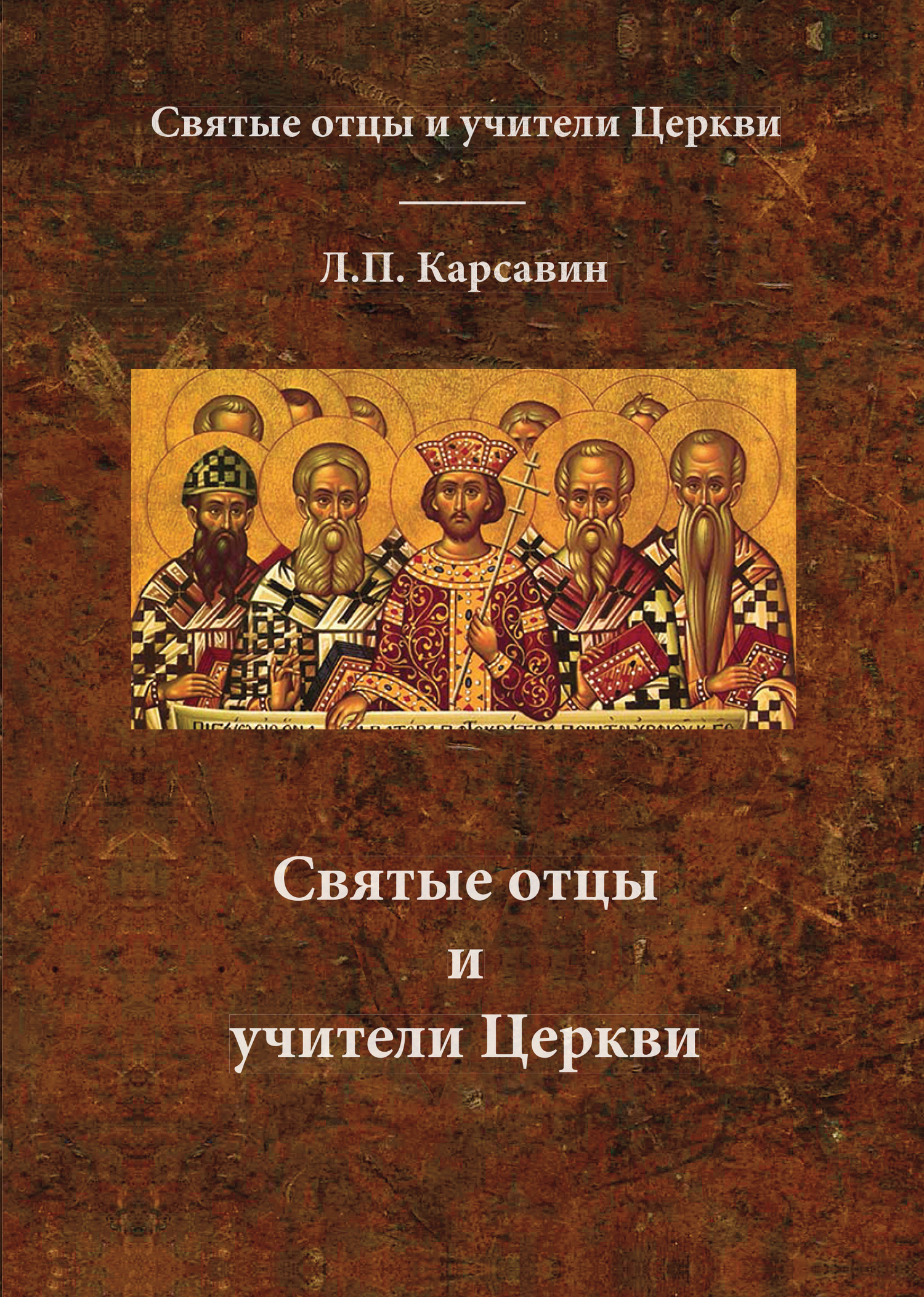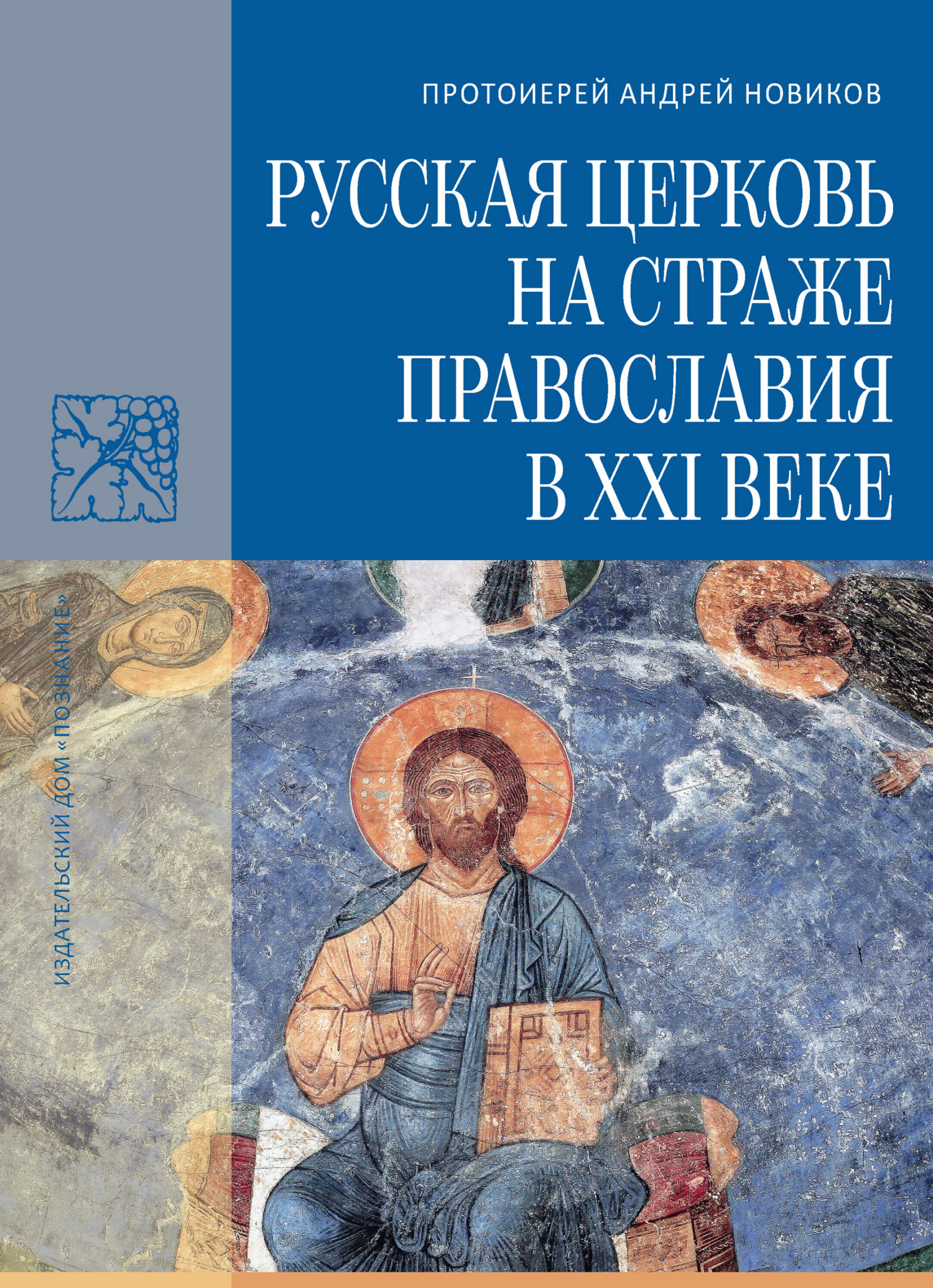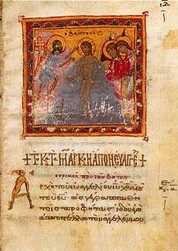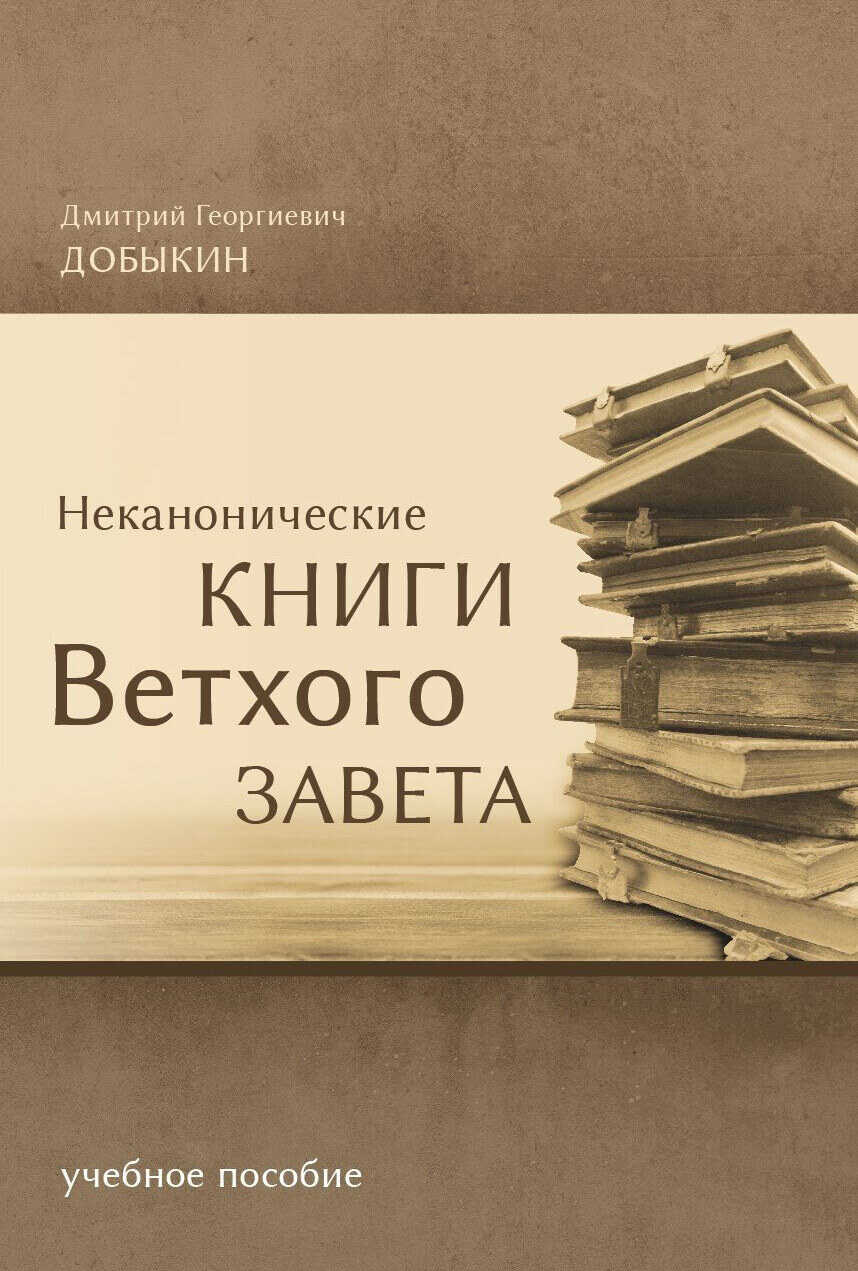Социальное евангелие в России. Православное пастырское движение в условиях голода, войны и революции - Дэниел Скарборо Страница 5

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение
- Автор: Дэниел Скарборо
- Страниц: 102
- Добавлено: 2025-07-04 12:57:58
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Социальное евангелие в России. Православное пастырское движение в условиях голода, войны и революции - Дэниел Скарборо краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Социальное евангелие в России. Православное пастырское движение в условиях голода, войны и революции - Дэниел Скарборо» бесплатно полную версию:Период поздней Российской империи был отмечен стремительными экономическими изменениями и социальными потрясениями: на него выпало две войны, два голода и три революции. Как в эпоху этих трансформаций менялись религиозные практики и какую роль православное священство играло в последние десятилетия империи? Опираясь на обширные архивные материалы, Дэниел Скарборо исследует влияние пастырского движения на российское общество и православную церковь. Он утверждает, что социальная работа приходских священников сместила фокус православной деятельности в России в сторону социального активизма как практики благочестия. Взгляд автора на положение пастырства показывает, как исторические катаклизмы меняли представления о самой сути религиозности, что, в свою очередь, влияло на модернизацию православной церкви. Дэниел Скарборо – PhD, доцент кафедры русской истории и религии Назарбаев Университета.
Социальное евангелие в России. Православное пастырское движение в условиях голода, войны и революции - Дэниел Скарборо читать онлайн бесплатно
Социальные сети, созданные приходским духовенством на протяжении XIX века, стали эффективным средством политической мобилизации в начале XX века. И церковь, и государственная власть всегда с подозрением относились к способности приходов бросить вызов существующей иерархии, но тем не менее допускали периодическое расширение этих сетей в надежде, что они укрепят социальную стабильность и будут противодействовать политической турбулентности. Способность иерархии сдерживать их деятельность испарилась с отречением царя. Летом 1917 года во всех 67 епархиях бывшей империи состоялись епархиальные съезды духовенства и мирян, сместившие ряд архиереев. Эти собрания направили делегатов на Всероссийский съезд духовенства и мирян, который собрался в Москве в июне. Такая «церковная революция» способствовала реформированию структуры власти в церкви, в том числе введению выборного начала при передаче апостольской власти. Этот принцип обеспечил народную поддержку восстановления патриаршества на соборе, который открылся вскоре, в августе 1917 года, и помог церкви пережить распад империи и стать единственным институтом царской России, который остался нетронутым после Октября 1917 года. В этой книге мы попытались понять, как политический дискурс, возникший в рамках пастырского движения, повлиял на реформу Российской православной церкви.
Добровольные ассоциации и гражданское общество
Пастырское движение служит важным примером добровольного объединения, преодолевающего сословные, классовые, образовательные и другие социальные барьеры, существовавшие в позднеимперской России. Исследования этого периода оживлены продолжающимися дебатами о том, находилось ли гражданское общество при царском самодержавии в состоянии «первичном и аморфном»[60]. Как и тезис о секуляризации, «гражданское общество» остается широко цитируемой теоретической концепцией, несмотря на то что она подверглась серьезному пересмотру. Обычно под этим понимается сфера добровольных объединений – вне сфер государства и рынка. В своем классическом описании ранних Соединенных Штатов Алексис де Токвиль утверждал, что способность формировать добровольные ассоциации позволила американским гражданам сохранить свою демократию, защищая свои права и свободы от посягательств как своего правительства, так и «тирании большинства»[61]. Более поздние теоретики заметили, что активное гражданское общество не обязательно поддерживает либеральную демократию и может даже подорвать ее в отсутствие стабильного правительства[62]. Характеристика гражданского общества как полностью автономного и антагонистического по отношению к государству также подвергается сомнению, поскольку ученые указывают на сотрудничество и дублирование функций между правительством и добровольными ассоциациями[63]. Усилия по определению нормативной модели привели к созданию деконтекстуализированных, идеалистических представлений о гражданском обществе. Как отмечается в одном недавнем обзоре литературы по этой теме, «гражданское общество, а не государство является сегодня бастионом утопизма в политической мысли»[64]. На несоответствие имперского российского общества такой нормативной модели гражданского общества часто ссылаются, чтобы объяснить его скатывание в гражданскую войну и тоталитарную диктатуру в XX веке[65].
Юридическое разделение имперского российского общества на сословия, а также на другие группы на основе конфессиональной или национальной принадлежности часто упоминается как главное препятствие на пути формирования гражданского общества[66]. Согласно этой точке зрения, несмотря на внутреннюю сплоченность, сословия стали взаимоисключающими, что вело их к тому, чтобы «распасться на все более мелкие составляющие, каждая из которых определяет себя на партикуляристском языке, долгое время ассоциировавшемся с сословностью»[67]. Например, купечество не допускало членства представителей других профессиональных групп в своих ассоциациях и само было внутренне разделено по признаку религии и этнической принадлежности[68]. Некоторые историки утверждают, что царский режим намеренно закреплял сословную систему именно для того, чтобы предотвратить формирование общей «буржуазной идентичности», которая могла бы стать вызовом самодержавию[69]. В своем исследовании России накануне Первой мировой войны Уэйн Даулер ссылается на теорию Эрнеста Геллнера о «сегментарном обществе», в котором индивиды тесно связаны с такими социальными образованиями, как сословия или конфессии, и не могут способствовать созданию нейтральной и открытой сферы действительно свободных ассоциаций: «Разделение населения на юридически определенные сословия, какими бы нестабильными они ни были, сохранило в империи остатки того, что Геллнер называет сегментарным обществом, в котором человек рассматривается как неотъемлемая часть некоего социального образования. Такое общество исключает представление о гражданском обществе, и частичное сохранение в России первого замедлило переход к новому гражданскому сознанию»[70]. Обширная литература по этой теме верно определяет сословия и другие социальные и религиозные категории как барьеры на пути формирования коллективной социальной идентичности по модели национального государства. Однако вряд ли стоит рассматривать Российскую империю через призму теоретической дихотомии Геллнера – противопоставления современного гражданского общества и «сегментарных сообществ, определяемых родственными связями и ритуалами, то есть, возможно, свободных от тирании центра, но не совсем свободных в нашем понимании»[71]. Эта модель затемняет важную роль этих сословных обществ в содействии распространению добровольных ассоциаций, которые описывает сам Даулер. Пастырское движение было одной из многих форм свободных ассоциаций, возникших в рамках «социальных единиц» внутри Российской империи.
Хотя «гражданское общество» не обязательно способствует нормативному пути развития к либеральной демократии, способность населения поддерживать сети доверия и сотрудничества дает людям возможность определять и преследовать общие цели в современном массовом обществе. Пенелопа Исмей описывает этот процесс в своем исследовании христианских обществ взаимопомощи в Британии XVIII и XIX веков: «Общества взаимопомощи (friendly societies) помогали британцам сопрягать разные социальные пространства: общество, основанное на рождении и иерархии, с обществом, основанном на риске и мобильности; и таким же образом они помогали рабочим ориентироваться в географическом смысле между сельским пространством и безличными городскими центрами»[72]. Добровольные объединения играли аналогичную роль в позднеимперской России[73]. Крестьянам, отказавшимся от старой общинной системы земледелия и создавшим независимые фермы, помогло быстрорастущее кооперативное движение в Европе[74]. Мигрантов в Сибирь и Среднюю Азию встречали общества для оказания помощи нуждающимся переселенцам[75]. Староверы создавали благотворительные сети как для поддержки своих единоверцев, так и для того, чтобы снискать расположение своих соседей и избежать преследований[76]. Раненые солдаты, вернувшиеся с войн в Европе и Маньчжурии, были приняты во временных госпиталях, поддерживаемых православными общинами. Семьи солдат получали поддержку от мусульманских благотворительных объединений[77]. К началу Первой мировой войны в Москве действовало
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.