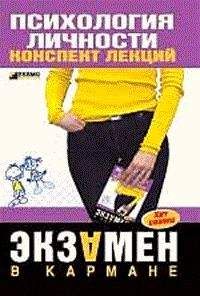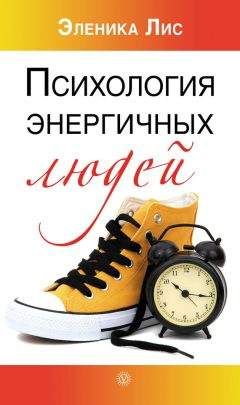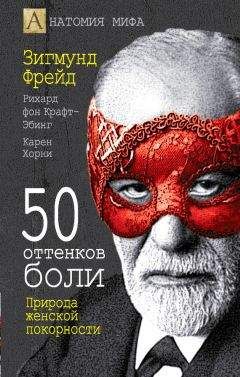Эротика - Лу Андреас-Саломе Страница 28
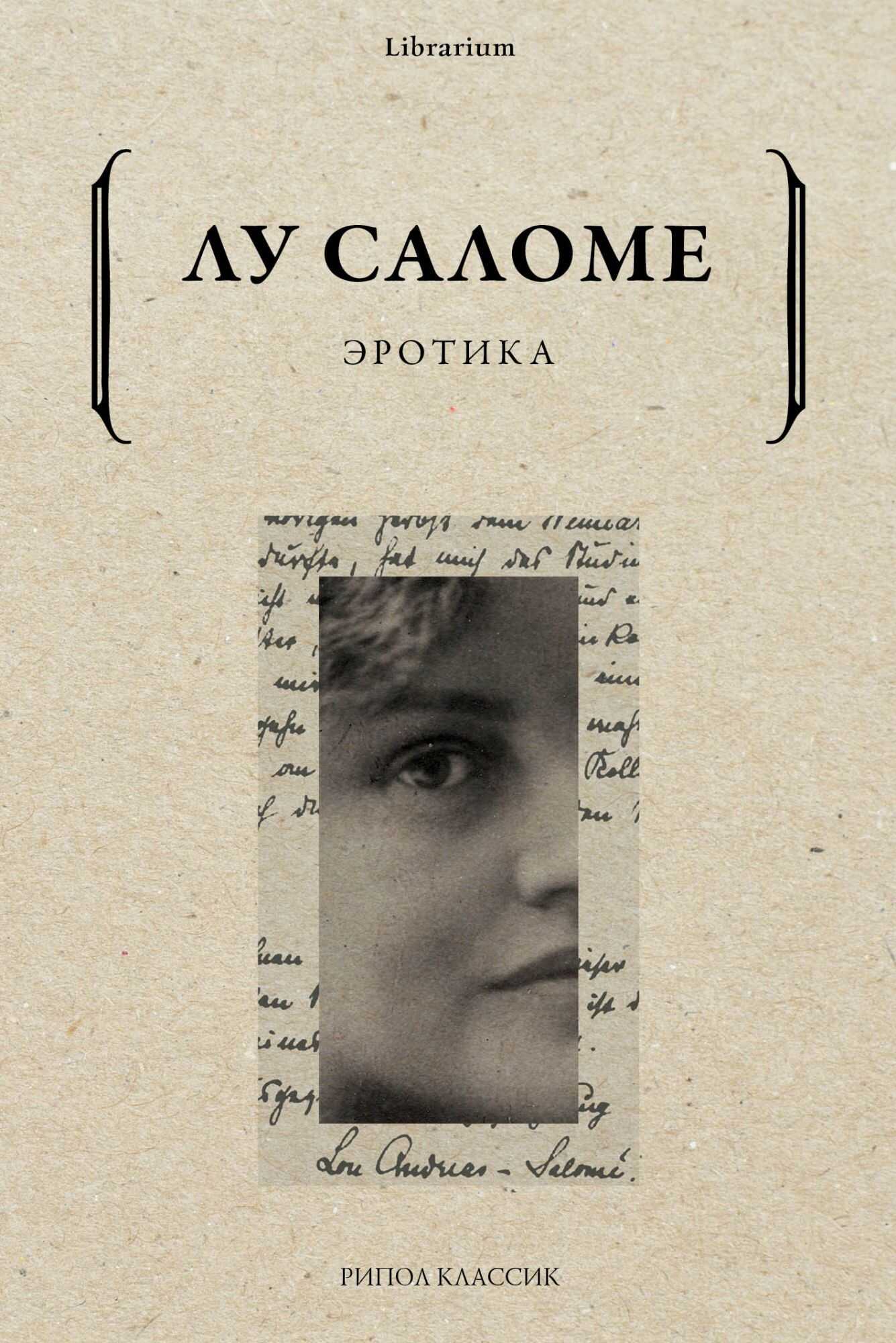
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Психология
- Автор: Лу Андреас-Саломе
- Страниц: 72
- Добавлено: 2025-07-04 12:48:46
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эротика - Лу Андреас-Саломе краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Эротика - Лу Андреас-Саломе» бесплатно полную версию:Лу Андреас-Саломе (1861–1937) — писательница, философ и психоаналитик. Она была одной из самых умных, проницательных, мучительно завораживающих женщин рубежа веков. Лу никогда не боялась признать своего вечного ученичества, продолжая путь познания, поиска себя до самой смерти, будто следуя словам своего друга Ф. Ницше: «Стань тем, Кто ты Есть!» В наш сборник вошли ее психоаналитические статьи, в том числе известнейшая «Эротика», которая многократно переиздавалась при ее жизни. Помимо научных работ читатель может познакомиться с удивительными воспоминаниями Лу Саломе о близких друзьях — Ф. Ницше, Р.М. Рильке, З. Фрейде.
Эротика - Лу Андреас-Саломе читать онлайн бесплатно
* * *
Страдания и одиночество – таковы два главных жизненных начала в духовном развитии Ницше, и они все сильнее сказываются по мере приближения конца. И до самого конца они сохраняют странную двойственность, делающую их одновременно и внешней судьбой, и психически обоснованной потребностью внутреннего мира. Его физическое страдание, не менее его замкнутости и жажды уединения, отражает и символизирует нечто сокровенное, и притом с такой силой и непосредственностью, что он воспринял это страдание в своей внешней жизни как ниспосланного ему верного друга и сопутчика. Так, он писал однажды следующее, выражая свое соболезнование горю другого человека (в конце августа 1881 года из Сильс-Марии): «Мне всегда тяжело слышать, что Вы страдаете, что Вам чего-нибудь недостает или Вы кого-нибудь утратили: ведь у меня самого страдания и лишения составляют необходимую часть всего и не составляют, как для Вас, лишнего и бессмысленного в мироздании».
То же выражается и в отдельных разбросанных по его произведениям афоризмах о значении страданий для познания.
Как телесные страдания были предлогом для внешнего уединения, так в его психических страданиях следует искать одну из самых глубоких причин его сильно обостренного индивидуализма, его резкого подчеркивания слова «отдельный» в смысле «одинокий». Понимание отдельности человека у Ницше таит в себе историю болезни и не идет в сравнение ни с каким общим индивидуализмом: содержание его обозначает не «удовлетворение самим собой», а, скорее, «претерпевание самого себя». Следя за мучительными подъемами и падениями в его душевной жизни, мы читаем историю стольких же насилий над самим собой, и длинная, мучительная, геройская борьба таится за отважными словами Ницше: «Этот мыслитель не нуждается ни в ком, кто бы опровергал его; он сам удовлетворяет себя в этом отношении!»
Он говорит о влиянии настроений больного и выздоравливающего на ход мыслей и следит за тончайшими переходами таких настроений вплоть до самых высоких духовных их проявлений. Периодически возвращающиеся заболевания, подобные его собственным, постоянно отделяют один период жизни от другого, и тем самым один период мысли от другого. Эта двойственность создает впечатление и сознание двух сущностей. Благодаря ей все бытие обновляется каждый раз, приобретает для духа «новый вкус», как он метко выражается, и создает совершенно новое отношение даже к самому привычному и будничному. Все получает какую-то свежесть и как бы покрывается светлой росой утренней красоты, потому что была НОЧЬ, отделяющая его от предыдущего дня. Таким образом, каждое выздоровление становится палингенезисом самого себя и вместе с тем жизни вокруг – и тогда снова скорбь «поглощена победой».
Только внутренняя потребность его натуры, только мучительная жажда выздоровления приводила Ницше к новым идеям. Но стоило ему отразить себя в них, ассимилировать их своей собственной силой, как его охватывала новая горячка, тревожно толкающая избыток его внутренней энергии, который, в конце концов, направлял жало против него самого, делая его больным самим собою. «Только избыток силы есть доказательство силы», – сказал Ницше в предисловии к «Сумеркам богов». В этом излишке сила его сама создает себе страдания, изводит себя в мучительной борьбе, возбуждает себя к мукам и потрясениям, которыми обусловливается творчество духа[5].
С гордым восклицанием: «что не убивает меня, то делает меня сильнее!» («Сумерки богов») он истязает себя не до полного изнеможения, не до смерти, а как бы нанося себе болезненные раны, в которых он так нуждался. Этот поиск страдания проходит через всю деятельность Ницше, образуя истинный источник его духовной жизни. Лучше всего это выразилось в следующих словах: «Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее понимание, – знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклание, – знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа: но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадность молота!» («Так говорил Заратустра»).
«Упругость души в несчастии, ее ужас при виде великой гибели, ее изобретательность и мужество в том, как она носит горе, смиряется и извлекает из несчастия всю его пользу, и, наконец, все, что ей дано – глубина, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие, – разве это дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания?» («По ту сторону добра и зла»). Ницше всякий раз нужно, чтобы душа пламенела для того, чтобы получить ясность и яркий свет познания, но пламень этот никогда не должен превращаться в благотворную теплоту, а должен ранить сжигающими и сверкающими огнями.
Эта необыкновенная способность уживаться заново с самым тяжелым насилием над собой, осваиваться с каждым новым пониманием вещей существовала как бы для того, чтобы разлука со вновь приобретенным делалась с каждым разом все более потрясающей. «Я иду! Сожги свою хижину и иди мне навстречу!» – повелевает ему дух, и упрямой рукой он вновь и вновь лишает себя крова и идет в темницу, навстречу приключениям, с жалобой на устах: «Я должен снова подняться на ноги, на усталые, израненные ноги, но я вынужден это сделать, и на самое прекрасное, не имевшее силы удержать меня, я оглядываюсь злобным взором – именно потому, что оно не смогло удержать меня!» («Веселая наука»). Как только ему становилось отрадно среди какого-нибудь миросозерцания, на нем самом исполнялось его же пророчество: «Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него»(«По ту сторону добра и зла»).[6]
Перемены воззрений, склонность к метаморфозам лежат в самой глубине философии Ницше и как бы образуют лейтмотив его системы познания. Не без причин называет он себя в заключительной песне в «По ту сторону добра и зла» «борцом, который слишком часто побеждал самого себя, – слишком часто противился собственной силе – и собственной победой изранен и стеснен».
По своей героичности эта готовность Ницше жертвовать убеждениями положительно заменяет в душе Ницше стойкость убеждений («Убеждения более опасные враги истины, чем ложь»). «Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения, – сказано в «Страннике и его тени», – мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.