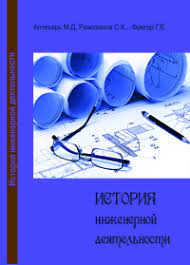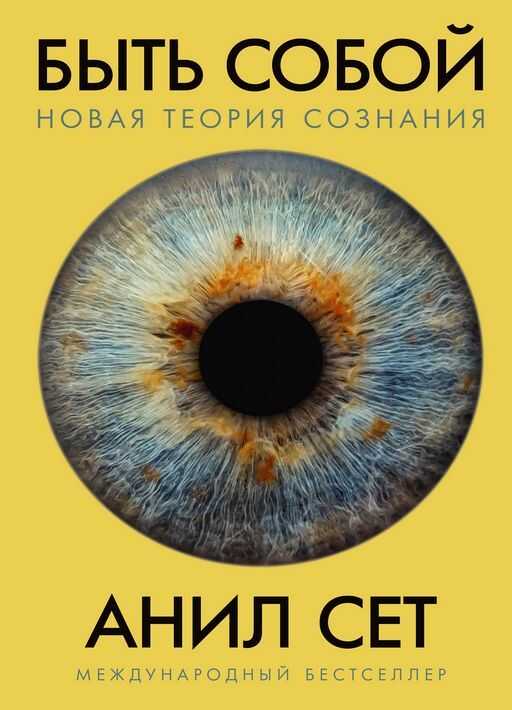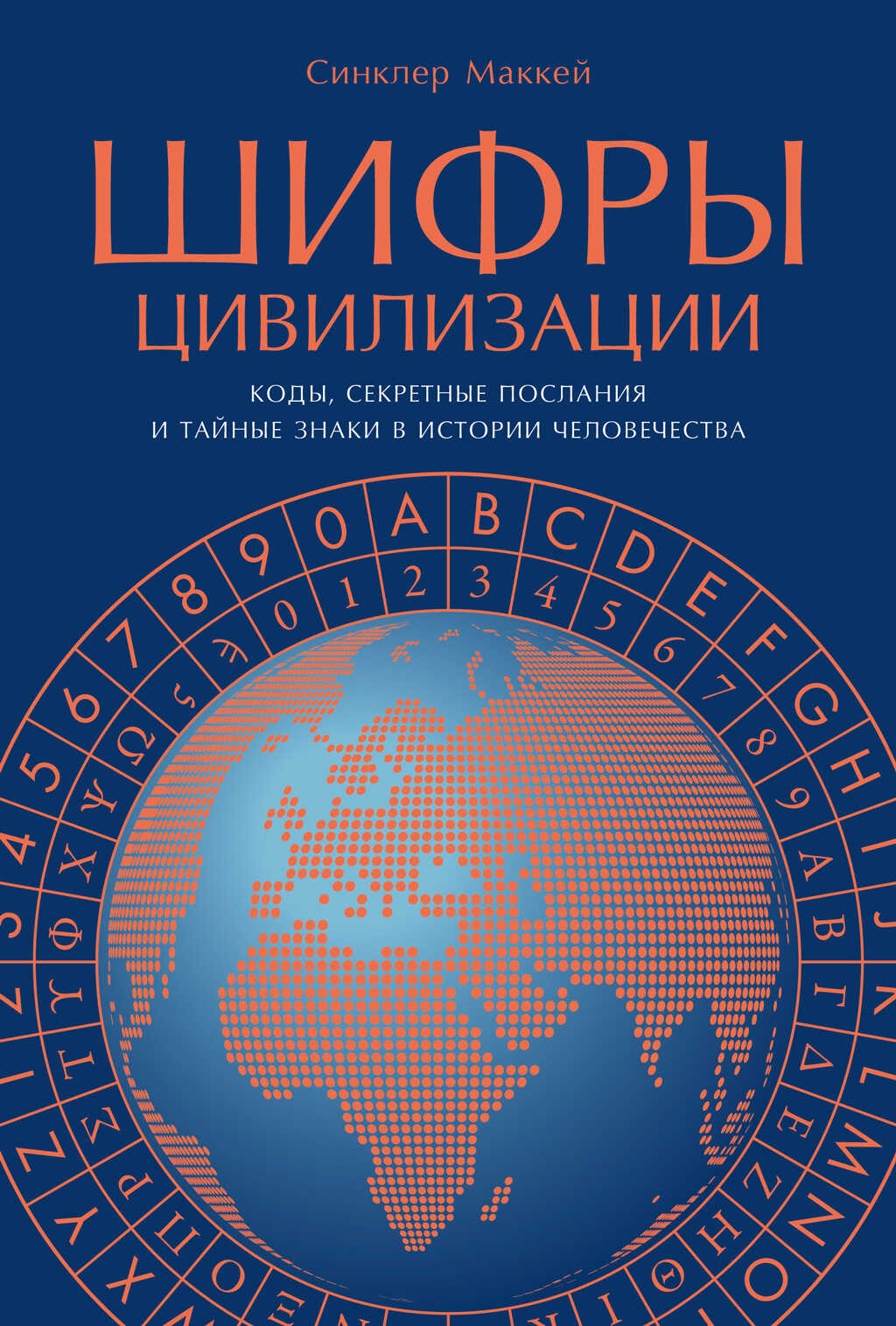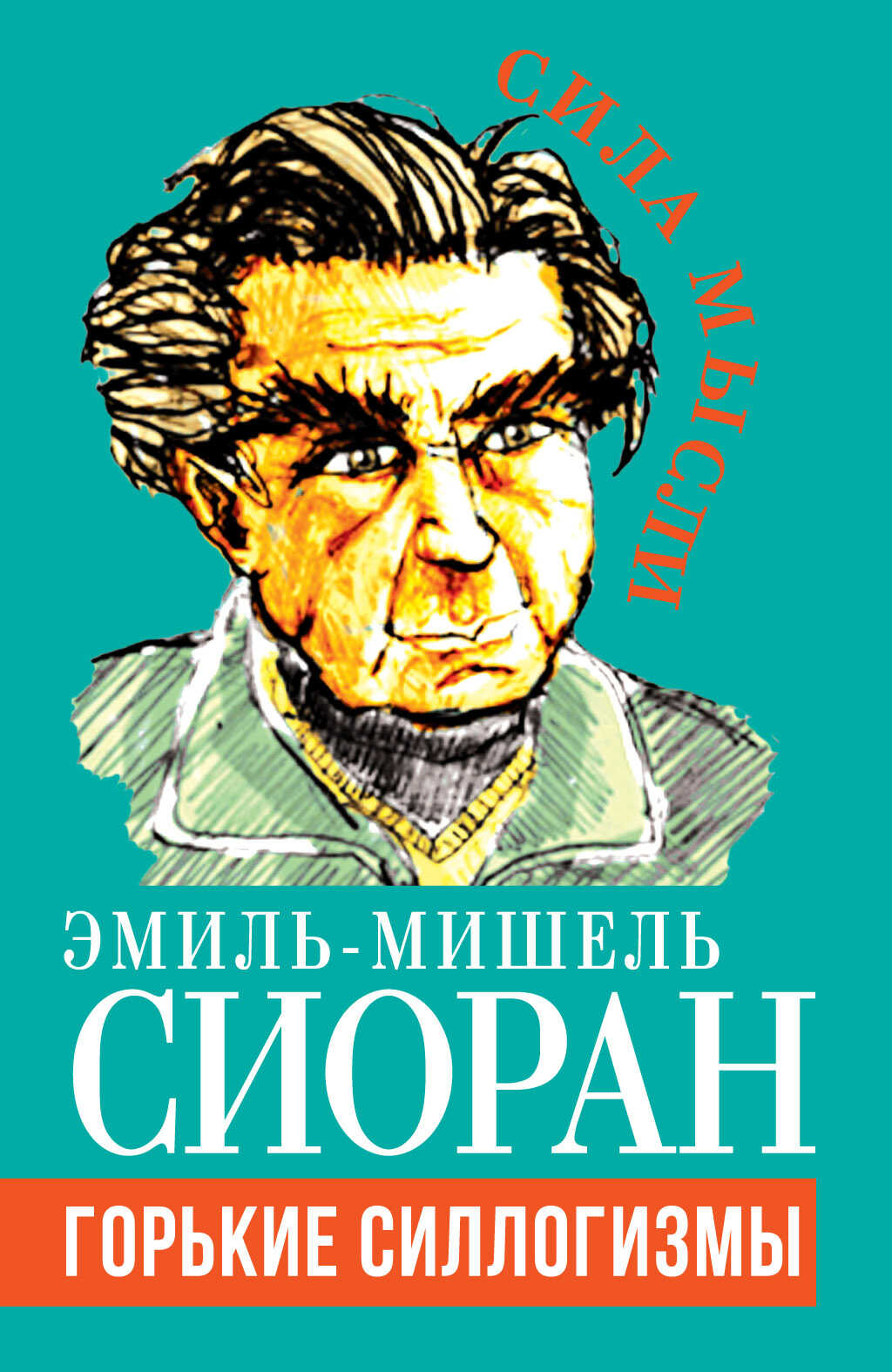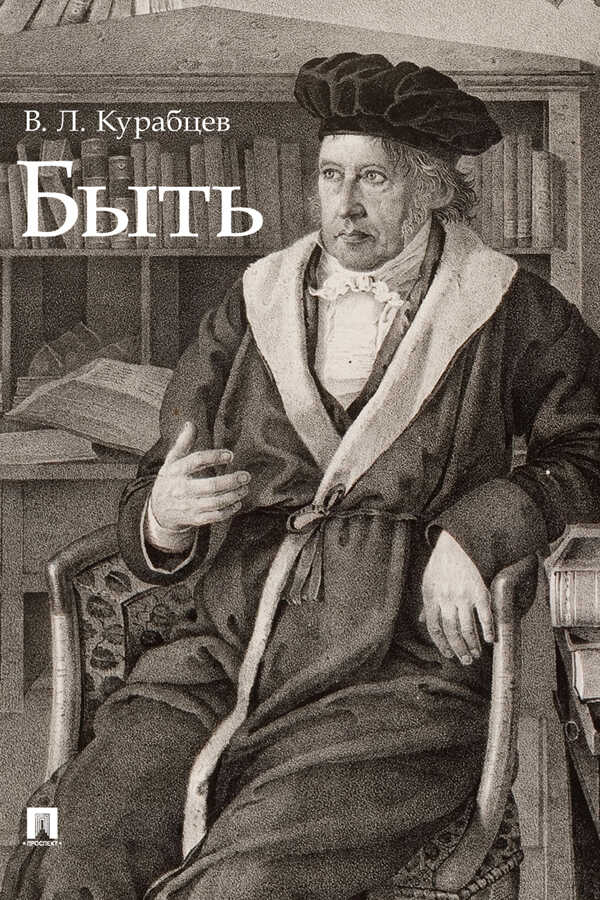Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы - Лариса Евгеньевна Померанцева Страница 40
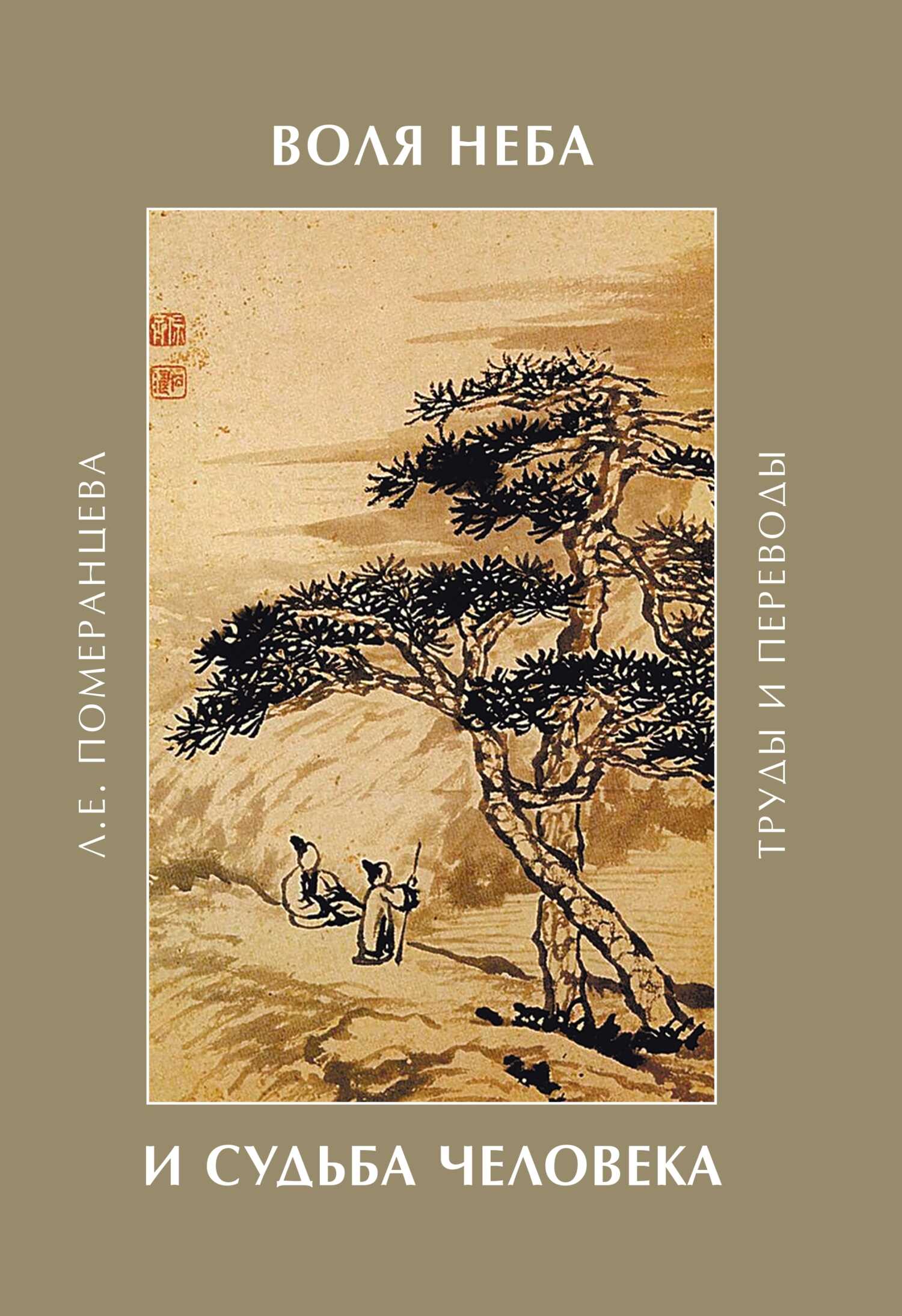
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература
- Автор: Лариса Евгеньевна Померанцева
- Страниц: 146
- Добавлено: 2025-10-22 09:02:20
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы - Лариса Евгеньевна Померанцева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы - Лариса Евгеньевна Померанцева» бесплатно полную версию:Серия «Российское китаеведение: избранное» продолжает ранее выходившую серию «Corpus sericum», в которой публикуются избранные труды, статьи и переводы известных отечественных ученых-синологов.
Лариса Евгеньевна Померанцева (1938–2018) – известный российский (и советский) китаевед, переводчик, историк литературы, талантливый педагог. С ее именем связан первый в отечественной науке полный перевод на русский язык крупнейшего философского памятника эпохи Хань (II в. до н. э. – II в. н. э.) «Хуайнаньцзы», или «Философы из Хуайнани».
Цель настоящего издания – собрать воедино научные публикации Л.Е. Померанцевой, совместив их с ее переводами, с тем чтобы воссоздать наиболее полную картину творческого наследия ученого. В сборник вошли 15 научных статей; монография «Поздние даосы о природе, обществе и искусстве»; вступительная статья к полному переводу «Хуайнаньцзы» (в настоящем издании публикуется только первая его глава – «Об изначальном дао»); все изданные ранее переводы памятников. В сборник также помещены переводы шести «жизнеописаний» (лечжуань) из «Исторических записок» Сыма Цяня, пять из которых никогда ранее не публиковались и дошли до нас в составе личного архива ученого.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы - Лариса Евгеньевна Померанцева читать онлайн бесплатно
Гармония может пониматься как согласие подобных друг другу вещей (когда, например, тон гун откликается тону гун, или когда лук приводится в гармонию со стрелой, или кони в упряжке приводятся в согласие один с другим) и как согласие вещей неподобных, различных или противоположных (как согласие двадцати пяти струн в одном инструменте). Первый вид гармонии рассматривается как наипростейший, второй – доступен только мудрецам и мастерам высокого класса, однако первый вид является необходимой ступенью к достижению второго: когда кони не приведены в согласие, то и Ван Лян, Цзао Фу (мастера высокого класса) ничего не достигнут (7, 142, 265). Если первый вид направлен на согласование «внешнего» с «внешним» (лук и стрела), то второй предполагает созвучие «внешнего» с «внутренним» при главенстве «внутреннего» (например, «сердца» мастера и его рук). Но есть еще третий вид – когда мудрец или мастер обретают Высшую гармонию, тогда они вообще не нуждаются во «внешнем», а, как мы уже видели, «странствуют в сердцевине» Высшей гармонии.
Мера (ду или шу). Основной пафос рассуждений о мере сводится в «Хуай-наньцзы» к требованию исключить всякие крайности, ни в чем не переходить известной границы.
Мерой обладает прежде всего природа. Сколь бы ни был хаотичен и беспорядочен поток становления, в нем не утрачивается мера (7, 4). Древние мудрые правители «брали за образец небо, за меру – землю» (7, 351), т.е. здесь «мера» есть также образец, по которому меряют, с которым соразмеряются, так что и все выражение должно быть понято как то, что образцом, или мерой, им была природа, «небо и земля». Мерой в значении образца может служить только то, что обладает материальной формой, то, что может быть измерено, а ни дао, ни вообще бесформенное не могут быть измерены (7, 178, 258). Поскольку же есть вещи, к которым неприложимо мерило, постольку мера имеет ограниченное применение – она всегда связана с местом и временем и есть величина переменная, а не постоянная. Так, «законы – это меры и веса Поднебесной, уровень и отвес для правителя» (7, 140), но законы и установления меняются со временем (7, 212), и тот, кто не меняет законов и установлений вслед за изменением условий, погибает (7, 213). Законы же и установления должны также быть построены на мере, иначе они будут невыполнимы. Так, например, существующие правила соблюдения траура – в три года, в год, в девять месяцев, в пять месяцев и в три месяца – не под силу даже самому стойкому. Кто же его не выдерживает, подвергается порицанию, а кто выдерживает – прославлению. Но если бы не была в этих правилах утрачена мера, то и не рождались бы ни хвала, ни порицание (7, 175). Точно так же искусство мудрецов слишком высоко для обычных людей, оно следует и воспроизводит искусство дао и потому не может быть измерено и не может быть мерой для людей (7, 182). Во времена упадка нравов законы берут за меру высокое, а несовершенное вменяют в преступление, это и является причиной смуты (7, 183).
В связи с управлением более всего говорится о мере. Правитель «глубоко проникает в меру мягкости и резкости [натяжения вожжей] и знает, где натянуть, где ослабить» (7, 137); «преступивший закон, будь он человеком достойным, должен быть казнен; следующий мере, будь человеком недостойным, должен быть признан невиновным» (7, 141); мудрый правитель в поборах умерен, в собственном потреблении придерживается меры (7, 147); правитель, ведущий страну к гибели, в поборах «не знает меры» (7, 146); мера также есть основа мастерства: «мастер любит меру» (7, 278); стрелок определяет угол (меру) с помощью мишени, плотник – с помощью циркуля и наугольника (7, 25); для правителя такой мерой являются, как мы видели, законы.
Мера понимается так же, как умеренность, воздержанность. «Мудрец ест, соразмеряясь с желудком, одевается, соразмеряясь с формой (телом), сдерживает себя – и только» (7, 30, 111), народ в далекие времена «золотого века» «был экономен и бережлив» (7, 123), а во времена упадка «приходит конец бережливости» (7, 123). Однако умеренность не всегда толкуется в положительном смысле. Люди в век падения нравов «пресекают желания глаз мерой, сдерживают радость сердца обрядом… снаружи связали свою форму, внутри стиснули свое благо, зажали гармонию инь-ян, подавили свои природные чувства, на всю жизнь сделались несчастны».
Конфуцианцы не смотрят в корень того, что может вызывать желания, а запрещают желаемое; не вникают в то, что вызывает наслаждения, а запрещают то, чем наслаждаются (7, 110).
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.