Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова Страница 4
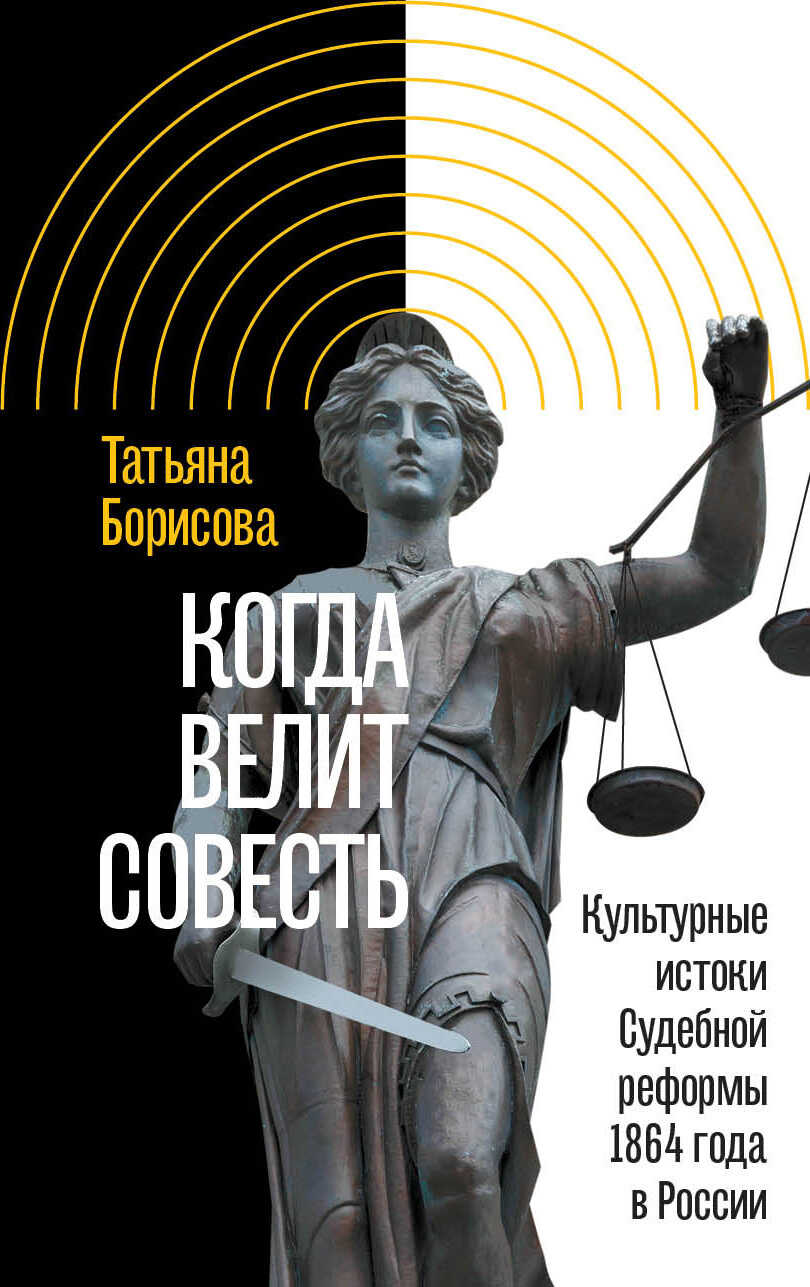
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература
- Автор: Татьяна Юрьевна Борисова
- Страниц: 152
- Добавлено: 2025-07-01 11:48:07
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова» бесплатно полную версию:Судебная реформа 1864 года стала попыткой радикальных преобразований российского общества, причем не только в юридической, но и в нравственной сфере. Начиная с 1830‑х – 1840‑х годов в публичном дискурсе человек, государство и его законы стали связываться сложной сетью различных понятий и чувств, а «долг совести» и «чувство истины» стали восприниматься как доступные всем сословиям средства этической ревизии русской жизни. В центре исследования Татьяны Борисовой – понятие совести, которое вступало зачастую в противоречивые отношения с понятием законности. Почему законность и судопроизводство в Российской империи стали восприниматься значительной частью образованного класса как безнравственные и аморальные? Как совесть получила большую преобразовательную силу, действие которой оказалось непредсказуемым для самих реформаторов? И почему порожденная переменами судебная практика стала ярким явлением русской культуры, но в то же время замедлила формирование правового самосознания и гражданского общества? Татьяна Борисова – историк, доктор права, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова читать онлайн бесплатно
В исследовательской литературе существует мнение, что глобальный процесс трансформации власти в модерном обществе не состоялся в полной мере в Российской империи потому, что эксперты не смогли отстоять свое право на власть, как это произошло на условном Западе[25]. Профессиональные группы юристов и врачей не смогли потеснить власть государства, поскольку слишком плотно были включены в его деятельность и «отвергали Западную буржуазную установку на собственные интересы и на цель самореализации»[26]. Исследователи психиатрии и физической антропологии в Российской империи оспорили этот тезис[27], но указали на некоторые особенности развития экспертного знания, связанные со «стратегическим релятивизмом»[28] дискурсов о норме в условиях имперской ситуации.
Что касается профессиональной юридической экспертизы, то она – гораздо больше, чем медицина[29], – проявила готовность опереться на общественное мнение и популярные морализаторские дискурсы. Пытаясь утвердить значение юридической экспертизы в открытом для публики суде, судебные деятели пытались опереться не только на слабую юридическую науку и на законы, которые государство всегда могло изменить, но и на «общественные» и «народные» представления о норме. И те и другие культивировались в печати и не были однозначными, а, наоборот, осознавались как пластичные и требующие уяснения[30].
В таких условиях реформированное правосудие, тесно связанное с публикой через печать, стало в новых условиях зримой ареной вынесения неочевидных приговоров. При этом, как будет показано в книге, обращение к совести как мерилу нормы было интересной утопической попыткой снятия социально-политических противоречий через «морализацию» спорных властных решений. Суд по совести рассматривался как средство удержать стремительно модернизирующееся общество от радикализации и политических конфликтов путем признания за публикой права на моральное суждение.
С этой точки зрения, то есть если рассматривать снизу, а не сверху новый суд, действующий по закону и по совести, сама формулировка Уортмана «право самодержца на покорность подданных» требует пересмотра. Покорность как безальтернативное подчинение основана на безусловной силе одной стороны и слабости другой. Царствие Александра II началось с пересмотра стратегии силы в пользу нового режима коммуникации с подданными, которые все чаще именовались «гражданами» – как в журналах, так и во внутренних государственных документах.
Гласность, с голосом в основе, предполагала свободу высказывания, разноголосицу разных суждений, выбор между ними. Среди них стали звучать голоса радикалов и полагавшихся им по закону адвокатов. Исследования советского историка адвокатуры Н. А. Троицкого показали, что многие адвокаты занимали вполне самостоятельную политическую позицию и использовали суд и печать для ее выражения[31]. Их политизация, как демонстрирует Уайтхед, опиралась на нарративы популярной беллетристики и журналистики[32].
Большой пласт исторических источников разного происхождения позволяет говорить о том, что в 1860-х годах реформа осмыслялась и проводилась как вполне свободная реализация права подданных на участие в судебной власти. Рассматривая Судебную реформу 1864 года как сложный социально-политический и культурный процесс, мы можем опереться на недавние исследования, существенно пересматривающие представления о государстве и об обществе в позднеимперской России.
Монографии Е. Правиловой, И. Герасимова и С. Антонова помогают переосмыслить роль государственного начала в определении отношений между частным и общим в поздней Российской империи. Если Правилова разрушает старое клише историографии о недоразвитости института собственности в России, то Антонов дополняет эту картину, освещая роль частного интереса в кредитных отношениях и пределах государственного вмешательства в эту сферу[33]. Герасимов тоже проблематизирует «всесильную роль» государства, исследуя эффективность и адекватность государственных практик самоописания и саморефлексии. Городской плебс империи начала ХX века он изучает через призму постколониальной теории как субалтернов, которые языком насилия и преступлений отвечали на навязанные им схемы подчинения, тем самым опрокидывая их. Памфлетам и листовкам легальных и подпольных общественных деятелей, которых мы привыкли видеть двигателями протеста, Герасимов противопоставляет бессловесный путь безвестных проституток и «мазуриков» – путь нарушения и подрыва порядка.
Хотя литературный типаж глухонемого дворника Герасима из тургеневской повести «Му-му» является центральным в аргументации Герасимова, он концентрируется именно на действиях людей вне дискурса. В этом смысле с его новаторским исследованием можно поспорить по той причине, что отложившиеся в прессе и архивах источники о преступной деятельности плебеев создавались грамотными и даже образованными людьми, то есть проходили фильтр их восприятия. Развлекательное, обличительное или сочувственное изображение преступления и пороков в долгом XIX веке во многом опиралось на устойчивые сценарии публичного обвинения или оправдания в судах. В свою очередь, на них влияли художественные образы и обличительные сценарии представления о законности и правосудии в беллетристике и журналистике. Поэтому взаимовлияние суда и литературы является одной из исследовательских перспектив этой книги.
Вообще направление исследования Герасимова представляется очень интересным, особенно в свете актуальной дискуссии о проблеме дефицита этического суждения в России сегодня. Открытый цинизм героя позднесоветского и нашего времени – трикстера, как показывает М. Липовецкий, опирается на удаль Остапа Бендера, готового преуспеть любым способом и говорить для этого любым языком. Если вспомнить, что Бендер любил сопровождать свои искрометные фразы обращением к «господам присяжным заседателям», то мы получим косвенное подтверждение тому, что суд присяжных стал катализатором новой этической реальности в России. Но были ли манипулятивными per se те картины реальности, которые стали разворачивать перед присяжными обвиняемые, обвинители, адвокаты, свидетели и потерпевшие?
Исследовательские вопросы и подход
В этой книге рассматривается, как совесть, признанная критерием оценки деяний в суде, стала средством публичного обсуждения проблемы личных прав и ответственности в Российской империи середины XIX века. Очевидно, что это огромная тема, и данная монография делает только первый подход к ней. Опираясь на обширную историографию и анализ новых и уже известных источников, я исследую долгосрочную предысторию инструментализации совести и важные для работы российского правосудия события 1866–1868 годов, когда новые суды были открыты в обеих столицах. Критерием отбора событий стало то внимание, которое им уделила публика, – насколько мы можем судить об этом по историческим источникам тех лет и более позднего времени.
В большей степени книга опирается на источники, предназначенные для публики – ее мнение стало решающим в процессе гласного обсуждения того, как должна действовать совесть. В этом обсуждении переплелись как вполне реальные люди и судебные процессы, так и воображаемые
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.