Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова Страница 34
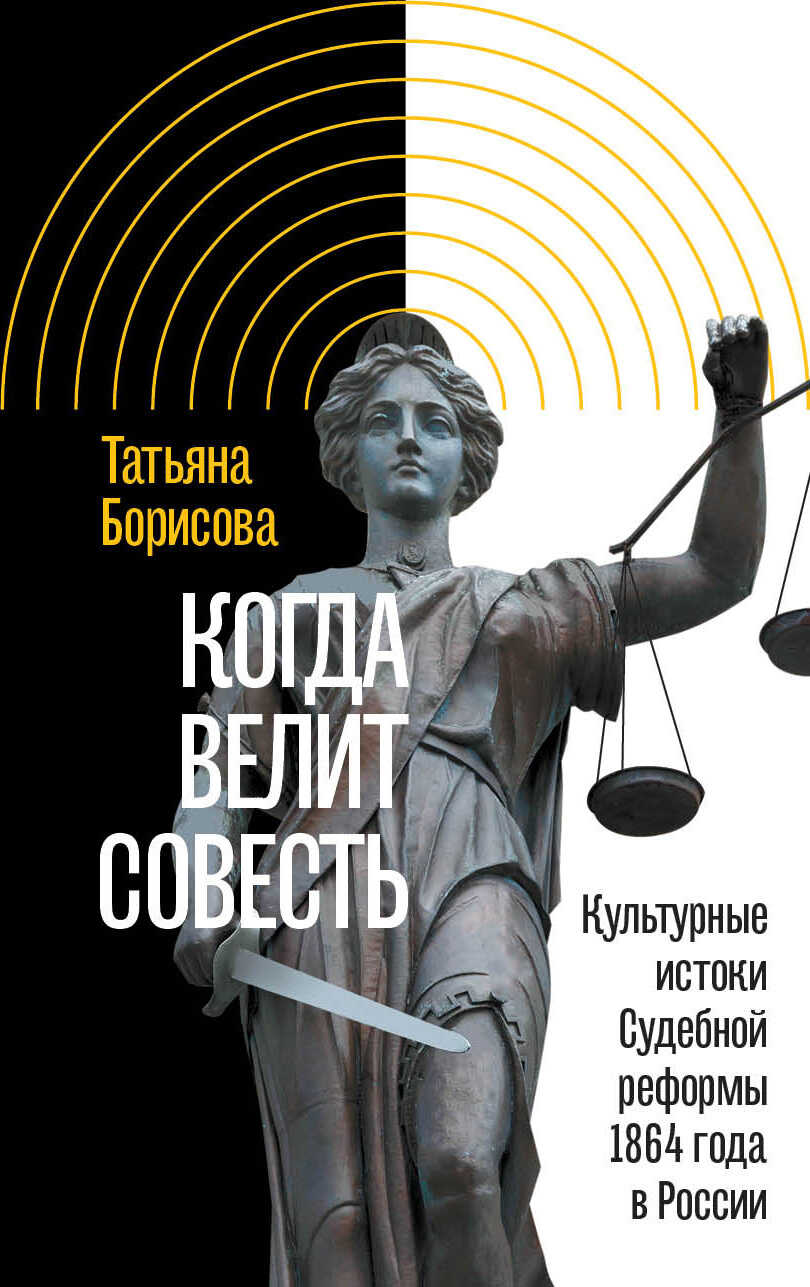
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература
- Автор: Татьяна Юрьевна Борисова
- Страниц: 152
- Добавлено: 2025-07-01 11:48:07
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова» бесплатно полную версию:Судебная реформа 1864 года стала попыткой радикальных преобразований российского общества, причем не только в юридической, но и в нравственной сфере. Начиная с 1830‑х – 1840‑х годов в публичном дискурсе человек, государство и его законы стали связываться сложной сетью различных понятий и чувств, а «долг совести» и «чувство истины» стали восприниматься как доступные всем сословиям средства этической ревизии русской жизни. В центре исследования Татьяны Борисовой – понятие совести, которое вступало зачастую в противоречивые отношения с понятием законности. Почему законность и судопроизводство в Российской империи стали восприниматься значительной частью образованного класса как безнравственные и аморальные? Как совесть получила большую преобразовательную силу, действие которой оказалось непредсказуемым для самих реформаторов? И почему порожденная переменами судебная практика стала ярким явлением русской культуры, но в то же время замедлила формирование правового самосознания и гражданского общества? Татьяна Борисова – историк, доктор права, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова читать онлайн бесплатно
Новые слова и понятия помогали проводить в жизнь идеи просвещения подданных, необходимые, чтобы положиться на их благоразумие в государственных делах, особенно в делах местного управления. Такие идеи были наиболее характерны для царствования Екатерины II. Самым ярким их проявлением стали хорошо изученные символические акции просвещенной государыни – екатерининский Наказ уложенной комиссии (1766) и сама Уложенная комиссия (1767–1768). В XIX веке Уложенную комиссию Екатерины и не написанный ею кодекс стали изображать как прецедент работы в императорской России учреждения квазипарламентского типа, которому просвещенная государыня доверила быть соучастником в разработке реформ[329]. Несмотря на то что уложение так и не было создано и пафос екатерининского Наказа депутатам оказался таким же блестящим и бесполезным, как позолоченный ковчег, специально созданный по приказу монархини для оригинала Соборного уложения[330], оценка этого проекта подданными была положительной. Профессор государственного права А. Д. Градовский писал в своем учебнике 1872 года, что работа комиссии «усилила и освежила» отечественное право «новыми элементами, почерпнутыми из народного источника»[331].
Такую благожелательную интерпретацию кодификационного проекта Екатерины II можно объяснить тем, что императрица соединила прогрессивные европейские идеи о праве в Наказе с практикой, напоминающей народное правотворчество, в Уложенной комиссии. Тем самым проект Екатерины создавал очень привлекательный, модерный образ России как «цивилизованной» державы с конституционными основами. Такая интерпретация[332] созидалась самой Екатериной, которая проявила беспрецедентную активность в популяризации своего замысла[333]. Для сравнения вспомним, что о более скромной Уложенной комиссии Елизаветы (1762–1764), созванной из представителей трех сословий, почти ничего не известно, тогда как представление об Уложенной комиссии Екатерины II как об оригинальной мере нового политического курса «законной монархии» прочно вошло в литературу[334].
Наказ Екатерины, как известно, был написан под влиянием разных «передовых» представлений и адресован тому же «всех читающих обществу». Своим Наказом императрица, вслед за Монтескье и особенно Беккариа, проводила важную идею о специфическом характере судебной власти и о необходимости некоторой ее автономии.
Екатерине оказались особенно близки мысли просветителей о связи правосудия и нравов. Наиболее последовательно эту связь разработал Чезаре Беккариа. Именно на его модный трактат «О преступлениях и наказаниях» 1764 года Екатерина опиралась в своем Наказе, цитируя автора часто почти дословно. С. И. Зарудный, один из архитекторов Судебной реформы, настаивал, что из нашумевшей книги Беккариа Екатерина заимствовала для своего Наказа почти сто статей об уголовном суде. В своем исследовании Зарудный констатировал, что трактат Беккариа – «это не итальянская, это скорее русская книга, написанная только на итальянском языке: Екатерина Вторая ее усыновила»[335].
Объясняя смысл своего трактата, Беккариа писал, что его труд – это ответ на течение жизни, которая изменяет человеческие и, следовательно, государственные представления о справедливости. Если «справедливость божественная и справедливость естественная по сущности своей непоколебимы и постоянны»[336], то государственная справедливость меняется из-за изменений в обществе. Поэтому происходит переоценка пользы тех или иных человеческих действий для изменяющегося коллектива и его интересов. Если богословы занимаются «границами правды и неправды в отношении существа добра и зла каждого действия», то государственную справедливость определяют «писатели». К ним причислял себя и Беккариа, которого Екатерина приглашала приехать в Санкт-Петербург для деятельного участия в создании нового общества и государства в Российской империи. Так же как и Беккариа, Екатерина относила себя к «писателям», формирующим новую реальность. Поэтому ее Наказ был не только законодательным манифестом императрицы-учредительницы, но в том числе и упражнением в творческой созидательной рефлексии о государственной и человеческой справедливости[337].
Возможности «писательского» моделирования справедливости Екатерина проверяла в своих пьесах и других литературных занятиях. Ее «артистический» проект был направлен на то, чтобы содействовать преобразованиям именно через работу с подданными, путем их улучшения. Уже в первый год своего правления Екатерина приступила к практическим шагам, чтобы «вывести новую породу людей» и тем самым запустить механизм саморазвития общества. Одним из таких шагов можно назвать одобренный императрицей в 1863 году педагогический план И. И. Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола».
Наказ Уложенной комиссии 1766 года и предоставленную им возможность для депутатов откликаться на передовые идеи своими предложениями можно считать продолжением проекта саморазвития общества через распространение прогрессивных идей. В этом же ключе можно рассматривать и журналистскую кампанию Екатерины, начатую изданием ею «Всякой всячины» в 1769 году. Неслучайно то, что преемственность в этом проекте наблюдалась даже на уровне исполнителей. Так, издателем сатирического журнала «Всякая всячина» стал статс-секретарь Козицкий, переводчик Наказа на латинский язык. Появившиеся затем «И то и се», «Ни то ни се», «Смесь» и «Адская почта», как и «Поденщина», выходили под патронажем императрицы.
Все перечисленные выше периодические издания сделали объектом своей сатиры устаревшие представления о добре и зле и стремились вовлечь в свои педагогические упражнения читателей, обращаясь к «суду публики» от лица своих просвещенных авторов. Один из авторов «Всякой всячины» писал, что прибегает именно к этому суду, потому что считает публику «за судью справедливого»[338].
Частыми героями обличений екатерининских сатириков становились продажные судьи, жулики-подьячие и, что характерно, псевдописатели, творчество которых низводилось до «рвотного средства». Настоящие же писатели осознавали себя в духе пафосного латинского выражения, которое избрало в качестве эпиграфа издание «И то и се»: «Concordia res parvae crescunt , discordia magnae dilabuntur» («Согласием малые государства укрепляются, от разногласия величайшие распадаются»). С целью публичного контроля за отправлением правосудия известный литератор Фонвизин на страницах «Собеседника», издаваемого императрицей, выступал с инициативой систематически печатать судебные тяжбы и решения по ним:
Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имения, чести и жизни гражданина, купно с решением судебным, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная похвала праведным судиям, возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных[339].
Эта идея, в порядке частной инициативы, но с посвящением государыне, воплотилась в издании, выходившем в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.