Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова Страница 30
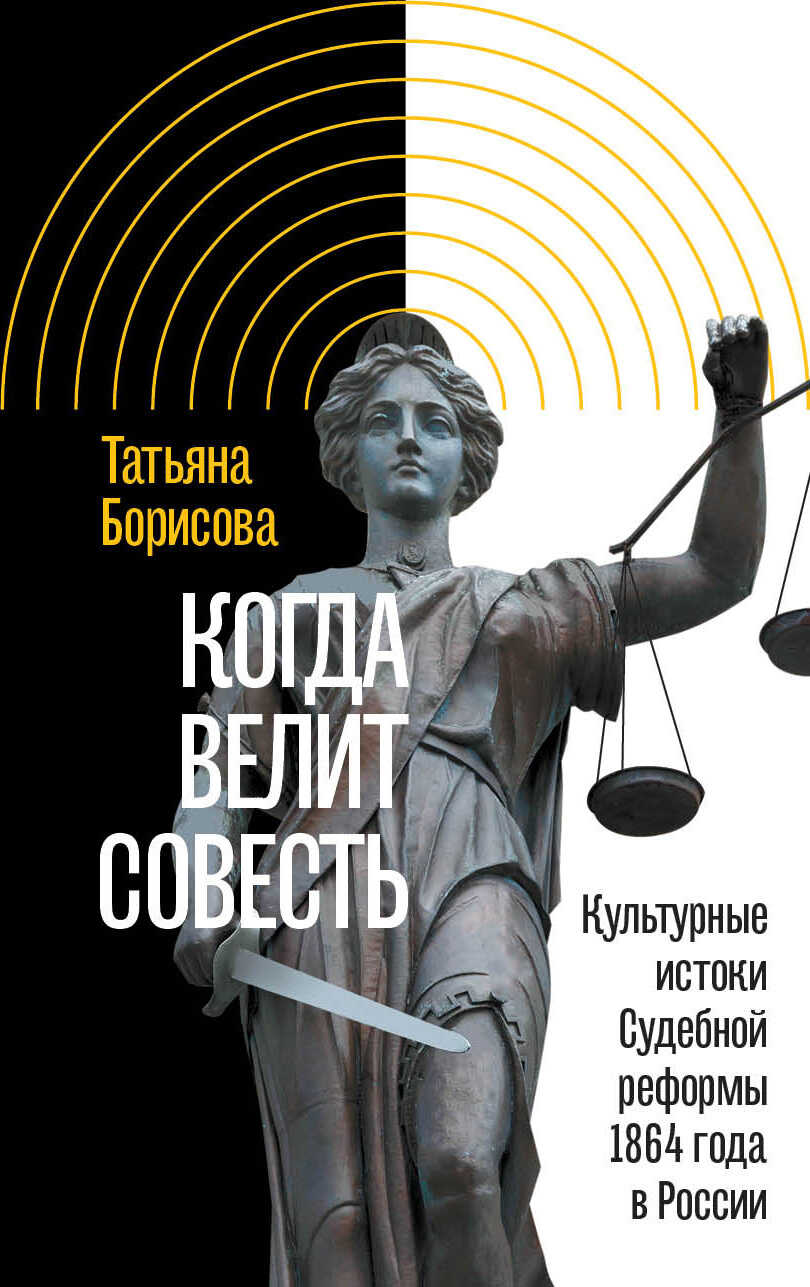
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература
- Автор: Татьяна Юрьевна Борисова
- Страниц: 152
- Добавлено: 2025-07-01 11:48:07
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова» бесплатно полную версию:Судебная реформа 1864 года стала попыткой радикальных преобразований российского общества, причем не только в юридической, но и в нравственной сфере. Начиная с 1830‑х – 1840‑х годов в публичном дискурсе человек, государство и его законы стали связываться сложной сетью различных понятий и чувств, а «долг совести» и «чувство истины» стали восприниматься как доступные всем сословиям средства этической ревизии русской жизни. В центре исследования Татьяны Борисовой – понятие совести, которое вступало зачастую в противоречивые отношения с понятием законности. Почему законность и судопроизводство в Российской империи стали восприниматься значительной частью образованного класса как безнравственные и аморальные? Как совесть получила большую преобразовательную силу, действие которой оказалось непредсказуемым для самих реформаторов? И почему порожденная переменами судебная практика стала ярким явлением русской культуры, но в то же время замедлила формирование правового самосознания и гражданского общества? Татьяна Борисова – историк, доктор права, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова читать онлайн бесплатно
Ознакомившись с текстом, министр не нашел в нем ничего противозаконного, но рекомендовал Аксакову воздержаться от творчества: «…желательно, чтобы Вы, оставаясь на службе, прекратили авторские труды»[288]. Аксаков был оскорблен и 5 февраля из Ярославля ответил графу Л. А. Перовскому так же «свободно и смело», как он судил в Калуге:
Никто никогда не мог и не может упрекнуть меня в лености или в нерадивом исполнении своего долга, потому что к деятельному служению побуждаюсь я ответственностью – не перед начальством моим, – а перед моею собственною совестью[289].
То, что Аксаков ставил ответственность перед своей совестью выше воли начальника, было признано дерзостью, а сам тон письма был найден неприличным. Аксаков подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. В бумагах Аксакова сохранилось письмо Перовскому, в котором Аксаков признавал «по совести», что был резок с министром, но настаивал на «праве говорить правду»:
Я хочу иметь в службе возможность сохранить под чиновническим мундиром человека честного (в обширном смысле этого слова); хочу иметь начальника, способного понять и уважать это требование (а потому и обращаюсь к Вам); хочу пользоваться правом говорить правду, без лести, разумеется, но и без резкости и запальчивости (в чем, по совести, не могу не сознавать себя виновным); желаю, наконец, иметь средства существования не по званию помещика[290].
Аксаков как типичный правовед
Судьба Аксакова-правоведа определенно отражает ту моральную миссию, которую желали принять на себя молодые образованные дворяне. Они хотели служить по закону и по велению совести одновременно. На этом пути Аксаков, представитель известного дворянского семейства, мог продвинуться гораздо дальше, чем бедный выпускник университета, судебный секретарь-сирота, которого он изобразил в своей пьесе. Намерение соединить закон и совесть в службе чиновника выпускник-правовед Аксаков провозглашал уже в своем дипломном сочинении. Ставя задачи «общественной справедливости» выше имеющегося закона, он еще в юные годы признавал приоритет морали над правом, если совесть требовала осудить то, что закон не считал преступным. «Служение правде» правоведов придало силы новому важному дискурсу морализма в обсуждении суда и законов, который раньше был известен только в литературе, но теперь стал проникать в правоведение и судопроизводство.
Смело выступая против рутинных корпоративных порядков в калужском суде, Аксаков являл собою положительный «тип правоведа», в начале 1850-х годов уже известный публике. Так, библиофил Г. Н. Геннади в 1854 году писал в своем дневнике об одном из героев «Марева» Писемского, воплощавшем «тип правоведа – бесстрашного, каких много нынче служит в провинции»[291].
Однако быстрое разочарование в законе, который не создавал преград несправедливым и коррумпированным чиновникам, заставило Аксакова поставить свою совесть выше закона. Подобные трансформации происходили с большинством его товарищей-правоведов. Возможно, поэтому в речах выдающихся выпускников Училища правоведения на его первом юбилейном вечере в 1860 году никто не упоминал понятий «право» или «закон», но, как уже отмечалось в первой главе, все фокусировались на борьбе с неправдой как главном деле правоведов.
Особый статус правоведов и других выпускников привилегированных императорских училищ позволял им действовать «эффектно» и при этом пользоваться протекцией товарищей в столице и не только. Однако постепенно и отрицательные стороны щеголеватых карьеристов-правоведов тоже стали восприниматься как типические. В «Петербургских трущобах», чрезвычайно популярном романе Всеволода Крестовского, печатавшемся в 1861–1862 годах, отмечены такие характерные черты «лицеистов и правоведов»:
тузики мира бюрократического, обыкновенно предпочитавшие более одежды пестро-полосатые и всегда следовавшие самой высшей моде, благодаря тому отпечатку лицея и правоведения (это не то, что университетский отпечаток), который, не сглаживаясь «по гроб жизни», всегда самоуверенно присутствует в их физиономии, манерах и суждениях. Они с большим апломбом рассуждали в умеренно-либеральном тоне о self-governement и сопрано Бозио, о политике Росселя и передавали слухи о новом проекте, новых мерах и новом изречении, bon-mot Петра Александровича[292].
Крестовский подчеркивал, что именно статус правоведов, как и выпускников других привилегированных училищ, становился пропуском в высшую касту чиновников. При этом сама миссия Училища начала терять свою новизну, опускаясь до пресловутой суетливой новизны двора, где менялось все, кроме тщеславия и порока. Думается, что фиксируемая в приведенном типическом описании пустота правоведов при их видимом блеске была отражением ставшей популярной сразу после смерти Николая I метафоры «лжи и призрачности» николаевского порядка, опорой которого призваны были стать правоведы и политическая полиция Третьего отделения.
Насколько уникальным был опыт Аксакова? Можем ли мы видеть в нем частное проявление общей тенденции этической критики правосудия в России? Важно, что сам Аксаков при всей своей творческой индивидуальности и при своем стремлении выступать «эффектно» представлял свои этические требования к действительности как особенность времени:
В нынешнее царствование во многих сердцах пробудились угрызения совести. Спрашивали себя: не виноваты ли мы перед русским народом, старались воскресить в себе русского человека[293].
В долгосрочной перспективе борьбу Аксакова за законность и справедливость правосудия нужно рассматривать как промежуточную стадию между дворянским и разночинным этапами критики системы юристами. (Более подробно о них пойдет речь в пятой главе.) Представитель старшего поколения М. А. Дмитриев был апологетом дворянского превосходства в службе по чести[294]. Аксаков, напротив, мыслил себя не исключительно дворянином, но «русским человеком». Осознавая свои привилегии – прежде всего как сына помещика с сотнями крестьянских, – Аксаков действовал в соответствии со своеобразным этическим императивом, который, по его мнению, мог изменить Россию. Эти настроения присутствовали уже в 1810-х – начале 1820-х годов в легальной деятельности членов тайных обществ, стремившихся служить максимально справедливо на государственной службе, в том числе и в судах[295]. С этой точки зрения Аксаков развивал известный еще поколению его отца конфликт устремлений совести и реалий чиновной службы. Сергей Тимофеевич в назидание детям оставил в семейном альбоме стихотворение «Стансы», превозносящее нравственный выбор его автора:
Спокоен я в душе моей,
К тому не надобно искусства;
Довольно внутреннего чувства,
Сознанья совести моей.
Моих поступков правоты
Не запятнает власть земная,
И честь моя, хоругвь святая,
Сияет блеском чистоты![296]
Однако в реальности самому С. Т. Аксакову, как и любому другому чиновнику, не
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.