Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова Страница 28
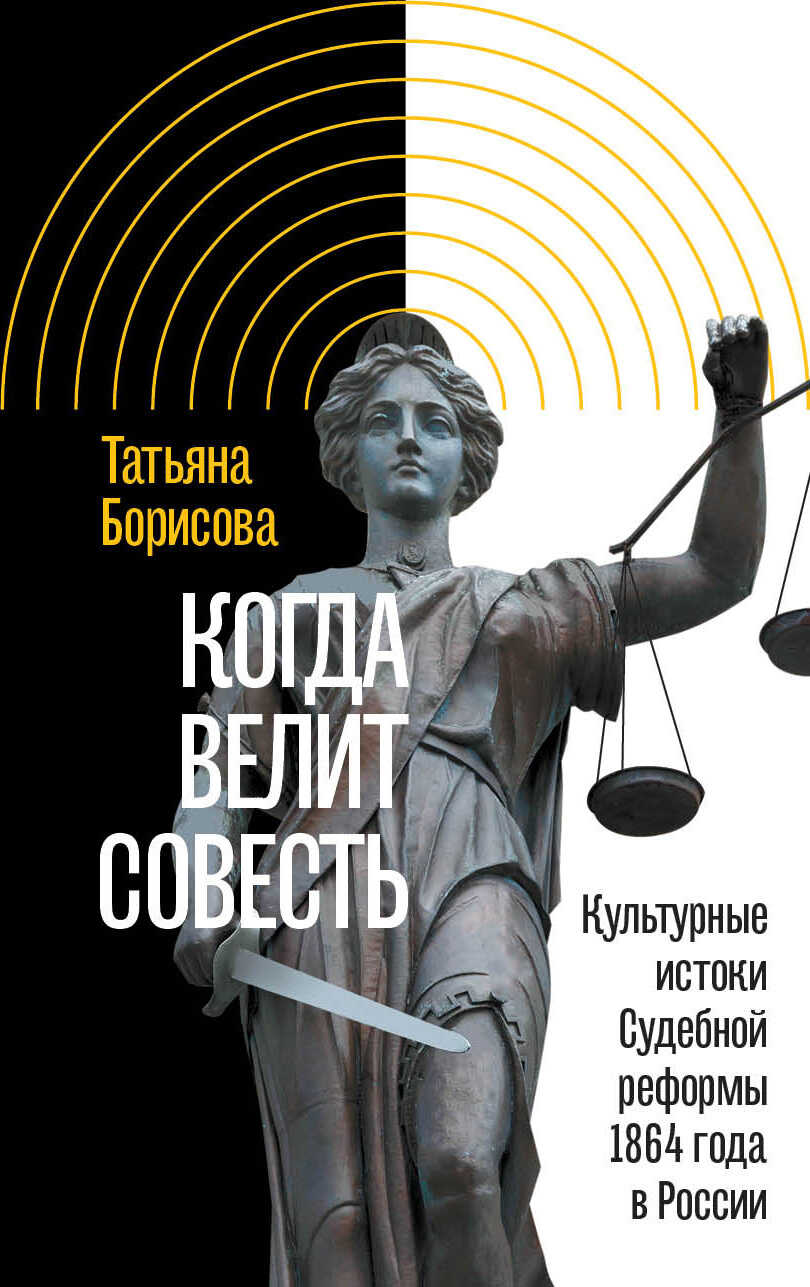
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература
- Автор: Татьяна Юрьевна Борисова
- Страниц: 152
- Добавлено: 2025-07-01 11:48:07
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова» бесплатно полную версию:Судебная реформа 1864 года стала попыткой радикальных преобразований российского общества, причем не только в юридической, но и в нравственной сфере. Начиная с 1830‑х – 1840‑х годов в публичном дискурсе человек, государство и его законы стали связываться сложной сетью различных понятий и чувств, а «долг совести» и «чувство истины» стали восприниматься как доступные всем сословиям средства этической ревизии русской жизни. В центре исследования Татьяны Борисовой – понятие совести, которое вступало зачастую в противоречивые отношения с понятием законности. Почему законность и судопроизводство в Российской империи стали восприниматься значительной частью образованного класса как безнравственные и аморальные? Как совесть получила большую преобразовательную силу, действие которой оказалось непредсказуемым для самих реформаторов? И почему порожденная переменами судебная практика стала ярким явлением русской культуры, но в то же время замедлила формирование правового самосознания и гражданского общества? Татьяна Борисова – историк, доктор права, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Юрьевна Борисова читать онлайн бесплатно
В сочинении «О скудости и богатстве» (1724) Иван Тихонович Посошков настаивал, что над судом людским стоит суд Божий. Понимание собственной греховной природы должно удерживать судей от слишком жестоких приговоров. В пьесе Аксакова эта мысль в устах персонажей выхолащивалась до якобы богоугодного уклонения от своего решения по делу под предлогом, что от них «ничего не зависит». Так, опытный заседатель Посошков советовал молодому и амбициозному дворянскому заседателю Жабину больше доверять системе и подписывать приговоры не читая:
…делайте, как я, батюшка Алексей Александрович, оно и для совести-то спокойнее, ей Богу! Ведь, по правде сказать, что толку, что вы прочтете приговор или нет? дела же вы все-таки читать не станете? (Курсив мой. – Т. Б.)[271]
«Добродушный» призыв уклоняться от решений, чтобы совести было «спокойнее», – мастерски переданная Аксаковым боль российского правосудия. Извращенное представление о совести судейских, которое автор хотел продемонстрировать публике, было поистине ошеломляющим. Чтобы представить все лицемерие недостойных судей, он вкладывал в уста молодого Жабина пафосный протест: дескать, так может пострадать правосудие. На это Посошков доводил до крайности доводы своего знаменитого прототипа, говоря, что правосудие само по себе, а уголовная палата – сама по себе. По этой логике помещик может своей волей судить своих крестьян, ведь от порядка в поместье зависит благосостояние помещика. Они – первая забота помещиков. В государственном же суде справедливость – дело корпоративное:
…а где дело-то поважнее, там и секретарь смотрит в оба! Ведь коли нас станут судить, так и он не отвертится… Да и то вы в расчет возьмите, ведь ваши решения просматривает Прокурор и Губернатор; за неправое решение кто отвечает? Не мы одни, и они также… У нас оттого и заведение такое, коли Прокурору что в решении не нравится, или Губернатору, так мы домашним образом и переправляем дело. Что его в Сенат-то таскать! Зато уж если все промахнемся, или дело решим криво, так уж все молчок, друг друга не выдадим, все шито да крыто, дело-то ведь общее, батюшка Алексей Александрович[272].
В конце опытный судебный заседатель Семен Иванович подчеркивал буквальное понимание богоустроенного порядка, радикально заостряя воззрения реального Посошкова:
все (вздыхая) Богом держится. …Нам за нижними инстанциями, да за губернатором, да за прокурором, да за секретарем знающим хорошо жить, ей-Богу, хорошо![273]
Жабин, который более других судей говорил по-французски и вообще мнил себя человеком цивилизованным, в итоге согласился с Посошковым: нужно жить со всеми, как принято, – «по-приятельски, потому что все под Богом ходим»[274].
Тем приятнее заседателям было обнаружить дворянскую солидарность и принципиальную позицию по делу Жомова, в котором все судьи от дворянства выступили однозначно против доводов секретаря. Тот разъяснял им, что по закону Жомов может быть признан виновным в разных преступлениях, если суд примет в качестве доказательств против него свидетельства его крепостных. Сама идея учесть такие свидетельства возмутила всех судей, кроме судьи от купечества, который в обсуждении не участвовал.
В итоге этого обсуждения недавно разглагольствовавший о высокой миссии правосудия Жабин с тем же пафосом напоминал коллегам, что суд является правительственной властью в губернии и «в видах правительства поддерживать власть помещика и звание дворянина»[275]. Поэтому обвинить Жомова означало бы противоречить политике правительства. По сути, восторжествовало практическое понимание корпоративного правосудия, в котором дворянские интересы помещиков Дракиных и Расплюевых защищали дворяне на служебных должностях. При этом наибольшее возмущение Аксакова вызывали лицемерные суждения заседателей о богоугодном порядке, учрежденном правительством «по совести», когда начальству всегда «виднее».
При таком понимании судьями своей роли приговоры были канцелярским делом, искусством правильного составления бумаг. Посулы и подарки за нужные решения «по-приятельски» тоже не были редкостью и, как пишет историк Д. В. Тимофеев, часто привлекали на выборные должности соответствующих представителей дворянства, заставляя других, достойных, уклоняться от таких должностей[276].
Несмотря на то что Аксаков не хотел служить и отвергал увещевания старшего брата-правоведа Григория дождаться возможности изменить ситуацию, со службы он ушел не по своему желанию. Его принудили к увольнению те самые доносы, которые он так горячо приветствовал в своем дипломном сочинении.
Расставание со службой
Доносы стали естественным следствием той самостоятельной позиции, которую Аксаков занял в Калуге во время своей почти двухлетней службы товарищем председателя Калужской палаты Уголовного суда. Откровенная переписка Аксакова с родными о его судейских буднях позволяет увидеть, как он выполнял требования закона в реальной жизни. В отличие от дворянского заседателя Посошкова, для Аксакова правосудие было не умиротворение, но справедливость. Справедливость же часто подразумевала конфликт интересов.
С большим жаром судья Аксаков описывал родным свой конфликт с депутатом-священником[277]. Без депутатов по закону нельзя было решать дела особых корпораций – военной, флотской и церковной. В деле о порядке возмещения ущерба от кражи церковного имущества депутат отказался принять точку зрения Аксакова. Смысл этого спора Аксаков подробно разъяснял родным.
Он писал, что закон не давал никакого алгоритма действия, если не было подозреваемых в краже. Однако существовала практика, при которой по суду денежное взыскание по цене похищенного «налагалось безо всякого закона» на церковного сторожа. Ему вменялась вина за упущение в охране церкви. Так как обычно на эту работу шли старики, отставные солдаты и «люди самые бедные», они не могли возместить убытки из своих средств. Им присуждались казенные работы, «долгими годами» которых ущерб можно было возместить. Аксаков находил подобную практику совершенно «нелепой».
С юридической точки зрения, за кражу должен был отвечать виновный в краже, тогда как нерадивый сторож должен был отвечать за свою оплошность, если, конечно, в его контракте не были прописаны условия возмещения возможного убытка. Но такого контракта с церковными сторожами никто не заключал. Поэтому Аксаков не без гордости писал о своем кардинальном решении:
Всем подобным делам я дал другое направление[278], мнение нижних инстанций уничтожил и написал, чтоб сторожей от
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.