Что было пороками, стало нравами - Сергей Исаевич Голод Страница 50
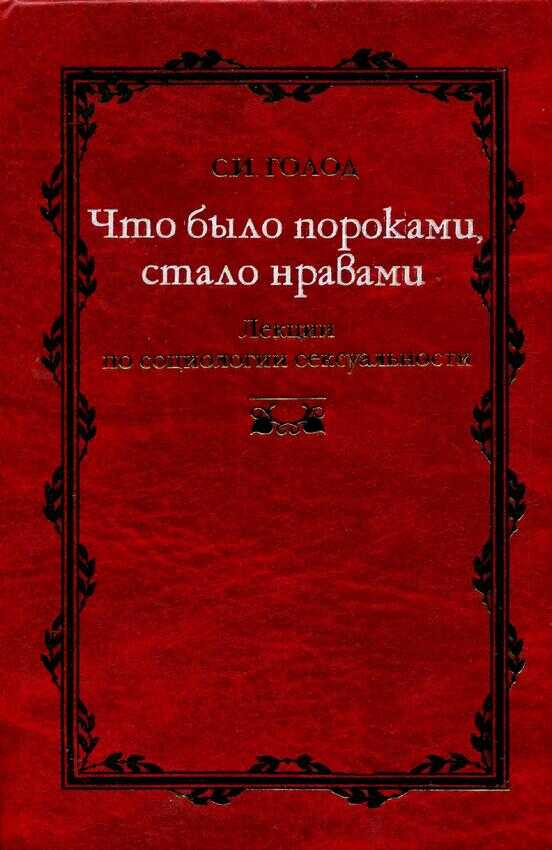
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Обществознание
- Автор: Сергей Исаевич Голод
- Страниц: 61
- Добавлено: 2024-06-16 10:01:37
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Что было пороками, стало нравами - Сергей Исаевич Голод краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Что было пороками, стало нравами - Сергей Исаевич Голод» бесплатно полную версию:В книге рассмотрены генезис и трансформация социологии сексуальности в нашей стране в контексте аналогичных процессов, разворачивающихся на Западе. Детально проанализированы такие злободневные для нынешней России темы как утрата браком монопольного контроля за сексуальностью, расширение зоны «параллельных» парным эротических практик (в том числе нелегитимных) и многое другое.
Опираясь на данные уникальных социологических опросов, автор реконструирует во многом сенсационную картину динамики изменений сексуальной морали в России.
Что было пороками, стало нравами - Сергей Исаевич Голод читать онлайн бесплатно
Россия, как по уровню внебрачной рождаемости, так и по темпам ее роста занимает срединное положение в ряду экономически развитых стран. Примерно такой же уровень отмечен в Австралии, США, Канаде, Австрии, Ирландии, Венгрии, Румынии. Существенно ниже, чем в России (в два раза и более), показатели в Бельгии, западных землях Германии, Греции, Италии, Испании, Швейцарии, Польше, Хорватии, Боснии, Македонии, Японии. Выше, чем в России (на уровне 40% от числа всех родившихся), внебрачная рождаемость во Франции, Великобритании, Дании, Финляндии, Норвегии, восточных землях Германии, Новой Зеландии, Латвии, Эстонии, Швеции (в последних трех странах показатель превышает половину от всех родившихся; см.: HP 2002: 54).
Вместе с тем категорически отрицать регулирующую роль института брака в эротике и прокреации также нет оснований.
Образно говоря, наряду с ним высветился иной агент — личность с ее непременным атрибутом — избирательностью. Мужчины и женщины, избегая публичности в оформлении (религиозного или светского) брака, вовсе не склонны отказываться от официального признания ребенка. Отсюда и дерегуляция — столкновение интересов социального института и актора. Одно дело, когда все действия заранее предписаны — господствуют обычаи или традиции; другое — когда решение о вступлении в эротическую связь здесь и сейчас должен принимать сам человек, сообразуясь со всей совокупностью обстоятельств и таких нравственных понятий, как «долг» и «свобода», а подчас под влиянием подсознательных импульсов и переполняющих его страстей.
Каким же видится в описанных условиях возможность смягчить противоречия между самоценным (и полифункциональным) эросом и сексуальностью, акцентированной на прокреацию?
Вспомним, в прошлом все, за редким исключением, мужчины и женщины вступали в брак. К примеру, вероятность того, что немец или немка в конце XX века хотя бы один раз в жизни вступят в брак, составляла 60% против 90% сорок лет назад (см.: Schmidt 2002: 56). Стремились молодые люди к этому, вероятно, в ожидании удовлетворения наиважнейших потребностей. Эвдемонизм{103} всегда был в их числе, но счастье в браке рассматривалось, по крайней мере теоретически, как вторичное по отношению к приоритетной потребности — деторождению. Относительно любви ожидалось, что она придаст рутинной повседневности определенную теплоту. Реально же отношения между мужем и женою, как правило, не выливались в страсть, скорее в заботу, ставшую традицией или, в лучшем случае, имитирующую нежность. Сексуальность занимала, очевидно, достаточную нишу (особенно у мужчин), но без интимности и необузданных чувств.
К концу минувшего века для большинства молодого европейского населения порядок приоритетов стал иным. Прежде всего, каждый из супругов ждет от брака того, что «не заложено» в его природе как социальном институте, — эротики (вплоть до «романтической» любви) и счастья, то есть личностной самореализации{104}, а рождение ребенка рассматривается как исполнение хотя и важной, но не первоочередной нужды (поэтому оно откладывается на более поздний срок). Отсюда и невозможно представить себе совмещения: полного «слияния» в любви и признания эротической автономии для каждого из супругов; долг друг перед другом и свободу расторжения союза; непререкаемый авторитет одного из партнеров и их эгалитарность; поощрение профессиональных амбиций мужа и жены и готовность к выстраиванию собственных индивидуальных биографий — всё это не может функционировать параллельно с моногамией.
Глава 10
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ (АДЮЛЬТЕР):
ГИПОТЕЗЫ, ФАКТЫ, СЦЕНАРИИ
В общественном сознании адюльтер ассоциируется главным образом с соматической «изменой», вследствие чего качественно разнородные сексуальные отношения с нелегитимным партнером оцениваются (за редким исключением) как безнравственные. Право же, невозможно представить себе обсуждение интимных сторон жизни актора без эмоциональных перехлестов, приводящих в конечном счете к малопродуктивным дискуссиям. Зададимся вопросом: кому или чему изменяет мужчина или женщина, состоящие в браке и вступившие в параллельную сексуальную связь? По-видимому, возможны два варианта ответов: (а) супруге (-гу) — нелегитимные отношения нарушают моногамный принцип «вечной верности»; и/или (б) брачным установлениям — происходит уклонение от про-креативной цели. Убежден: широкая распространенность таких взглядов не делает их аксиоматичными. Обсудим вкратце оба предположения.
В принципе, когда влюбленный (мужчина или женщина) говорит: «Я люблю тебя навеки», то он/она неосознанно, под влиянием страсти, смешивает «человеческое» — телесное, изменчивое — с «божественным» — бессмертным, неизменным; иными словами, уподобляет себя Богу. Изысканнее выразил эту мысль знаменитый немецкий философ: «Институт брака упорно поддерживает веру, что любовь хотя и страсть, однако как таковая способна продолжаться долго и что любовь, продолжающуюся всю жизнь, можно считать даже правилом. <...> Все институты, которые дали страсти веру в ее продолжительность и которые ручаются за ее продолжительность вопреки самому свойству страсти, дали ей новое положение: тот, кто бывает охвачен страстью, не считает это, как прежде, унижением и опасностью для себя, наоборот, он возвышается в своих глазах и в глазах себе подобных. Вспомните об институтах и обычаях, создавших из возбуждения минуты — вечную верность, из искры гнева — вечную месть, из отчаяния — вечный траур, из мимолетного, единственного слова — вечное обязательство: отсюда масса лести и лжи в мире, так как всё это по силам существу сверхчеловеческому» (Ницше 1901: 24). Прозорливость слов мыслителя опосредованно подтвердилась семейной практикой 20-го столетия, о чем свидетельствует, в частности, репрезентативность последовательной полигамии (так назвал этот феномен американский социолог П. Лэндис). Строго говоря, моногамный принцип — одна женщина и на всю жизнь — во многом исчерпал себя.
Повторные браки (remarriage) вовсе не современное явление. Они заключались и в прошлом по причине половозрастной асимметрии. В Англии по меньшей мере с 16-го столетия такого рода браки (по преимуществу вдовцов) составляли от 25% до
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.