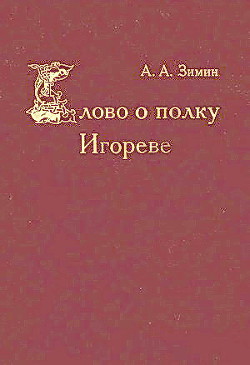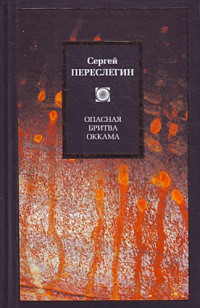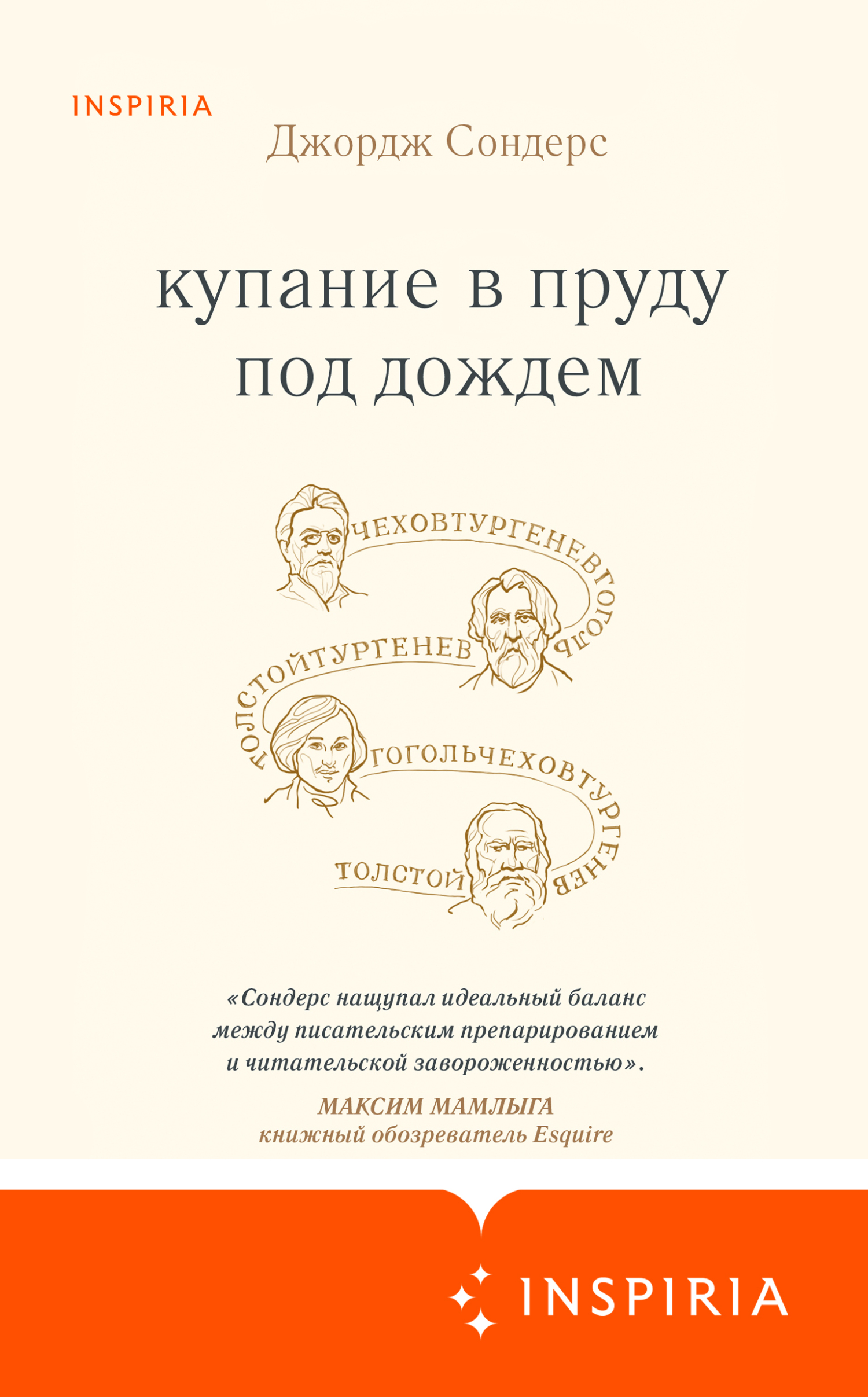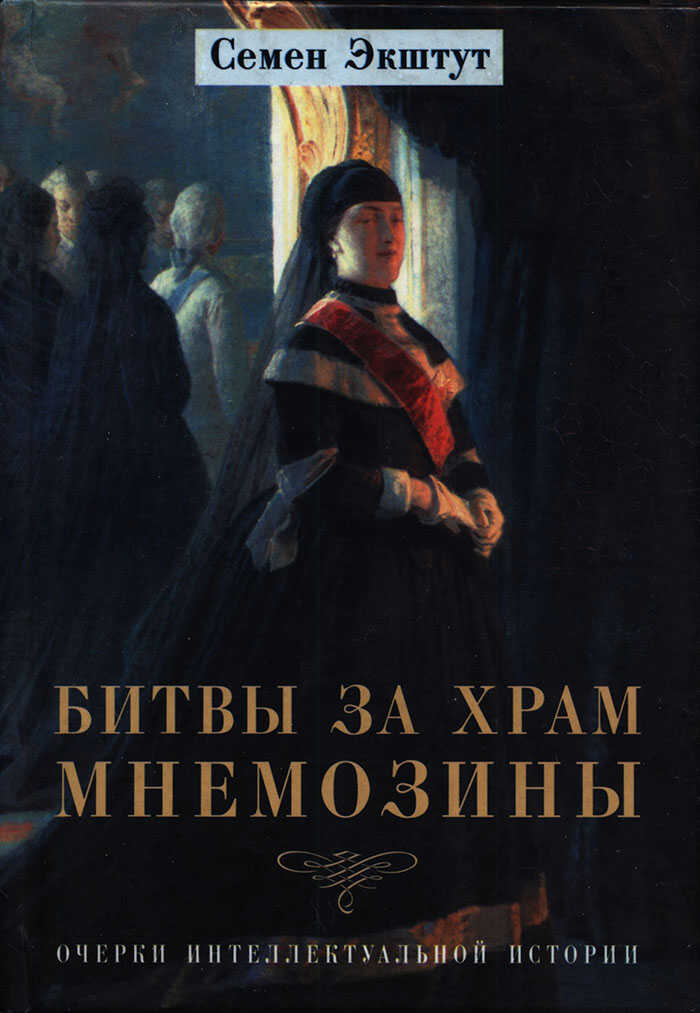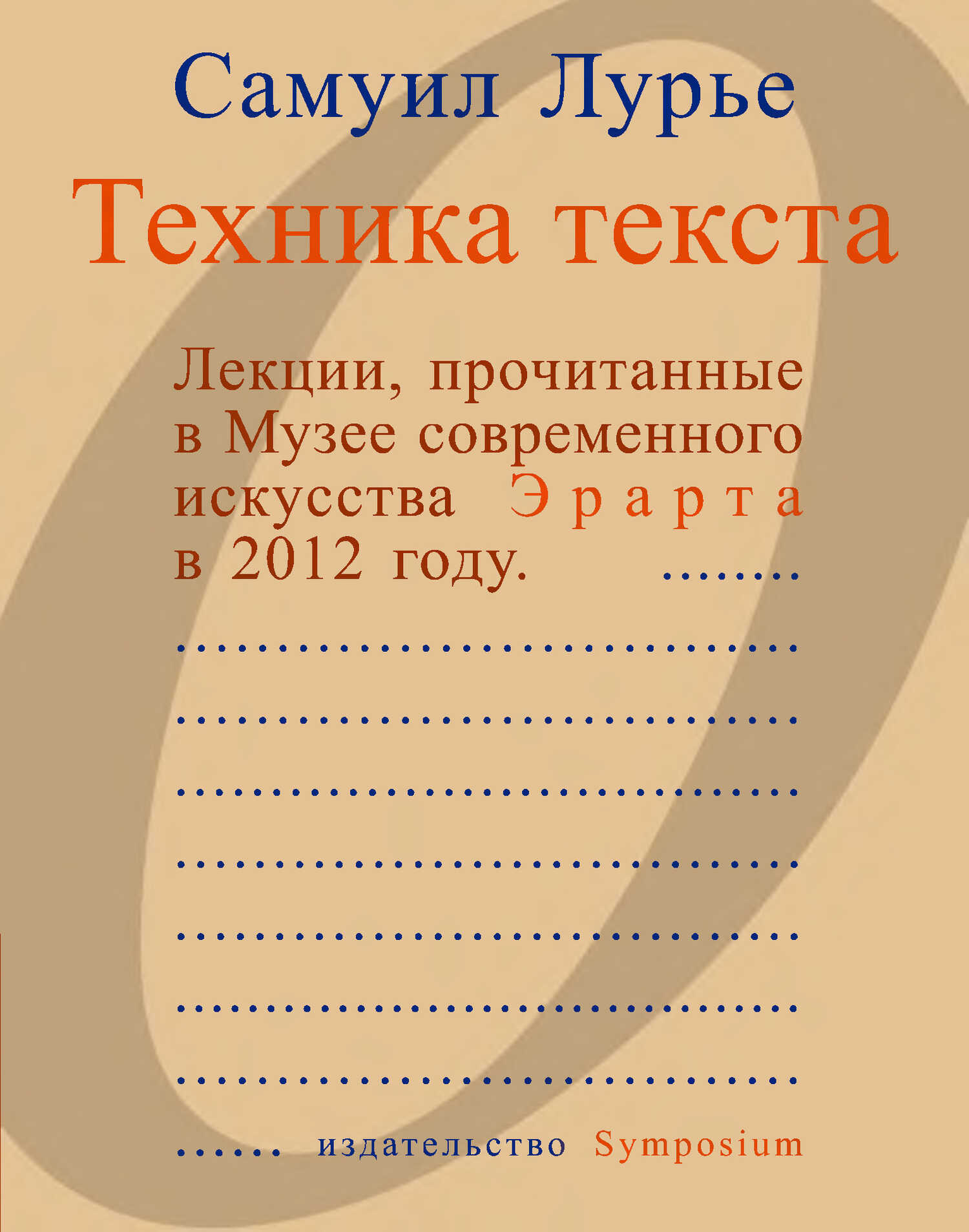От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин Страница 42
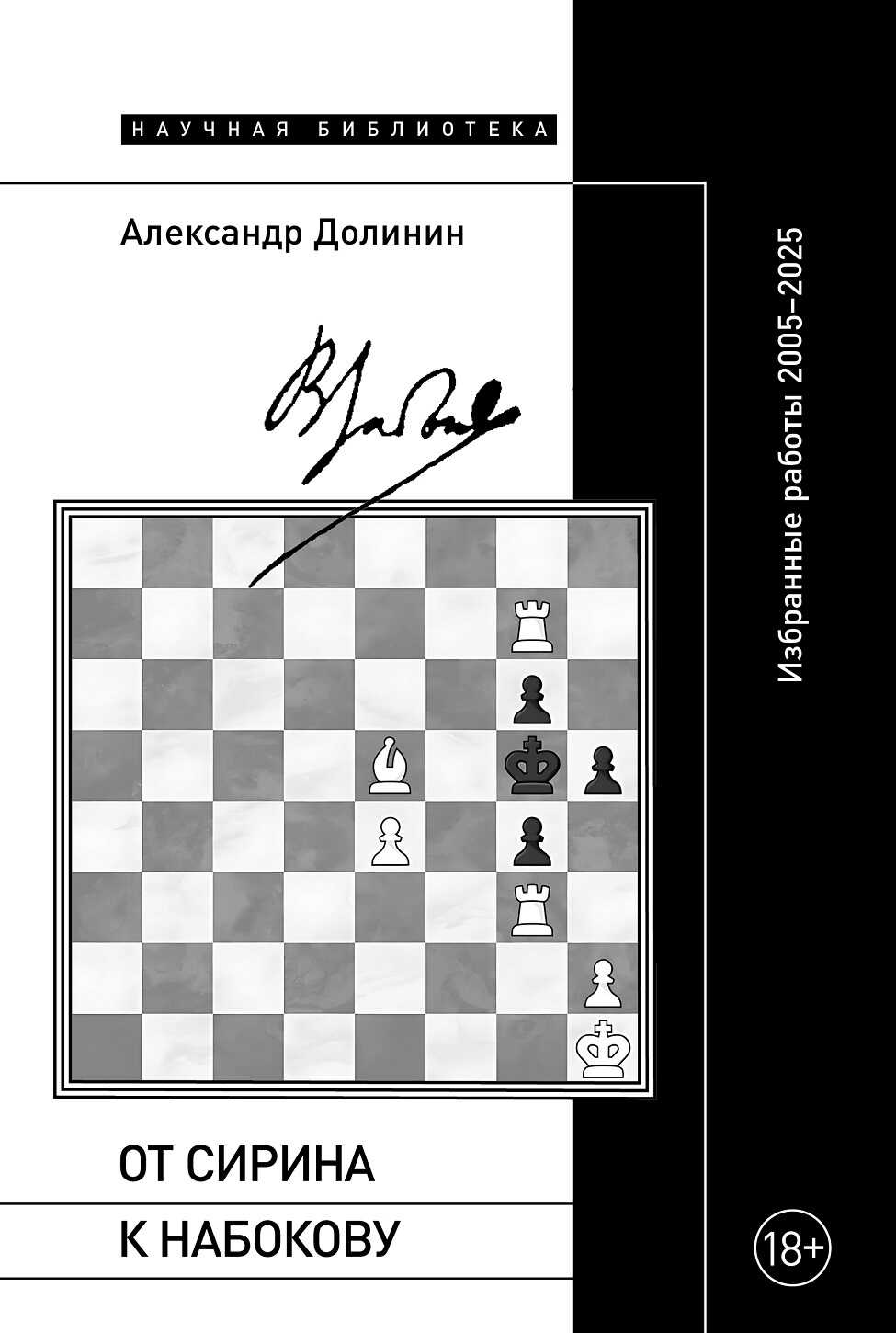
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Литературоведение
- Автор: Александр Алексеевич Долинин
- Страниц: 141
- Добавлено: 2025-10-28 09:11:53
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин» бесплатно полную версию:Сборник статей известного филолога Александра Долинина посвящен прозе Владимира Набокова. В первом разделе книги автор рассматривает русскоязычные романы и рассказы писателя в их многообразных связях с русской классической и современной литературой. Большое внимание уделяется его полемике с эмигрантскими и советскими прозаиками и критиками – Г. Адамовичем, И. Буниным, Ю. Тыняновым и другими. Во второй раздел вошли работы автора о нескольких англоязычных произведениях Набокова, в том числе – прежде не печатавшаяся статья «Русский субстрат „Лолиты“». В ней показано, как Набоков ввел в свой американский роман целый ряд аллюзий на русскую литературу и искусство, создав образ всесильного двуязычного автора, играющего со своим ненадежным героем-рассказчиком и с читателями, которые эту игру не замечают. В приложение к книге включены две комментированные публикации архивных материалов – подготовленная вместе с Г. М. Утгофом рецензия Набокова на три поэтических сборника, вышедших в Берлине в 1924 г., и его письма к Г. П. Струве (1925–1935).
От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин читать онлайн бесплатно
И, идя через могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном успении цвели басисто-багряные георгины, по направлению к скамейке, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившая к мужу, но целые дни проводившая в непосредственной близости от его жилья, озабоченная, бодрая, всегда с пакетами, – идя по этому пестрому гравию между миртовых, похожих на мебель, кустов и принимая встречных посетителей за параноиков, Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой горя, – и лишь гораздо позднее он понял все изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание [IV: 275].
Можно предположить, что Бунина разъярили не только вычурные составные прилагательные «могильно-роскошный» и «басисто-багряные» – он и сам иногда злоупотреблял ими в описаниях[384] – или церковная формула «блаженное успение», кощунственно переадресованная от Богоматери георгинам, но и неожиданный пролепсис в конце периода, который намекает на возможность ретроспективно осмыслить жизнь как стройную композицию, а то, что казалось случайным и неважным, как логично вытекающее из нее дополнение.
Возмущаясь набоковским стилем, Бунин по сути дела повторяет обращенные к Сирину упреки ряда эмигрантских критиков и писателей второго ряда 1930-х годов – упреки, с которыми Бунин тогда, кажется, не всегда и не во всем соглашался. Приведу лишь один пример из письма Сергея Горного А. В. Амфитеатрову от 22 августа 1933 года по поводу «Камеры обскуры»:
Это нечто донельзя возмутительное, головное, как бы «вяще изломитися»[385]. «Выкомариванье», «прищуривание». Подмиг. Подхихик. Нечто НЕСТЕРПИМОЕ, он объелся похвал. И развалился на Парнасском кресле. Развалился – и то язык высунет, то глаза прикроет, – то захрапит, то сплюнет, то ноги под себя подберет. Нечто до предела развязное. Вроде: «А, вот, возьму и так напишу, и вы ничего не скажете, – все скушаете, слопаете, а вот здесь эдак напишу» (кочевряженье)[386].
В те годы резкое неприятие у Бунина вызвало только гротескное, почти абсурдистское начало «Приглашения на казнь», никак не связанное с поэтикой его прозы. «Сирин привел меня в большое раздражение – нестерпимо! – писал он В. В. Рудневу. – Чего стоят одни эти жалкие штучки: § 1, § 2 и т. д. Почему §? И так все – ни единого словечка в простоте – и ни единого живого слова! Главное – такая адова скука, что <…> стекла хочется бить»[387]. С остальными произведениями Сирина Бунин, судя по всему, «мирился», поскольку чувствовал, – парафразируем его же слова, – что без него их бы не было.
Почему же то, что ранее не вызывало у Бунина особых нареканий, теперь привело его в бешенство?
Во-первых, Бунину едва ли понравилось упоминание его имени в последней главе «Дара», где Федор Годунов-Чердынцев, обсуждая в письме матери успех своей книги о Чернышевском, спрашивает: «Кто именно тебе говорил, что Бунин хвалит?» [IV: 524]. Получалось, что «реальный» Бунин приветствовал появление вымышленного Набоковым молодого прозаика и тем самым, так сказать, «передавал кольцо» его создателю. Кроме того, отчасти на свой счет он мог принять обидную шпильку по адресу пятерых лучших поэтов Серебряного века, чьи фамилии начинаются на «Б», – реплику воображаемого собеседника героя: «Интересно, кому именно вы отводите вкус» [IV: 258–259].
Во-вторых, Бунин должен был понять, что Набоков подхватил, транспонировал и блистательно развил «писательскую» тему его «Жизни Арсеньева», построив на ней все сложное многоплановое повествование, тогда как он сам оставил тему становления дара побочной, никак не связав сам свой текст с тем, что пишет в нем его автобиографический герой (в окончательной редакции он, правда, добавил к единственной дневниковой записи Арсеньева в XIV главе еще четыре заметки о себе и своем творчестве, отсутствовавшие в журнале, но они не внесли в тему ничего нового). Такая «апроприация» вряд ли ему понравилась, тем более что главные принципы философии творчества, предложенные в «Даре», мало чем отличаются от принципов, которыми руководствовался Бунин. Для обоих писателей творчество – это то, что дает творцу способность видеть и преображать мир, приносит радость, ведет, как сказано в главе XIII у Бунина, «к какому-то счастью»[388]. «А что такое – писать? – продолжал Бунин свое рассуждение в журнальной редакции „Жизни Арсеньева“. – Это непрестанно и наиболее напряженно узнать и чувствовать жизнь, ища в ней радующего, то есть дающего любовь»[389].
Лежащая в основе романа Набокова идея двух даров – творческого дара и дара жизни – была отнюдь не чужда Бунину. В бессюжетной миниатюре «Пост» (1916), которую Мих. Цетлин в рецензии на сборник «Роза Иерихона» назвал «как бы признанием автора о его творчестве»[390], рассказчик-писатель, закончив работу, благодарит Бога «за силы, за труд» и перифразирует стихиру на «Господи, воззвах» (псалом 140), которая поется в Великий Вторник: «Се тебе, душа моя, вверяет владыка талант, со страхом приими дар»[391]. Заканчивается миниатюра перифразой другого великопостного литургического текста – молитвы Ефрема Сирина, что вызывает ассоциацию с Пушкиным, который переложил ее стихами («Отцы-пустынники и жены непорочны…»):
Засыпаю с мыслью о радостях завтрашнего дня – о радостях своих вымыслов.
Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния. Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все в мире мое[392].
Герой «Дара» за три года проходит большой путь, в начале которого он «с какой-то радостной, гордой энергией» ищет «создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе». Несмотря на все трагические потери – отца, дома, России, первой возлюбленной, он постепенно научается понимать, что у него, как у рассказчика «Поста», «все есть», что «все в мире его», и с благодарностью радуется подаркам жизни:
Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня – и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства: «Как быть Счастливым»? Или глубже, дотошнее: понять, что скрывается за всем этим,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.