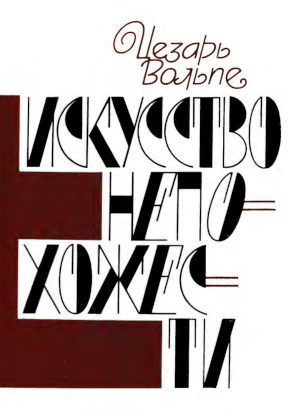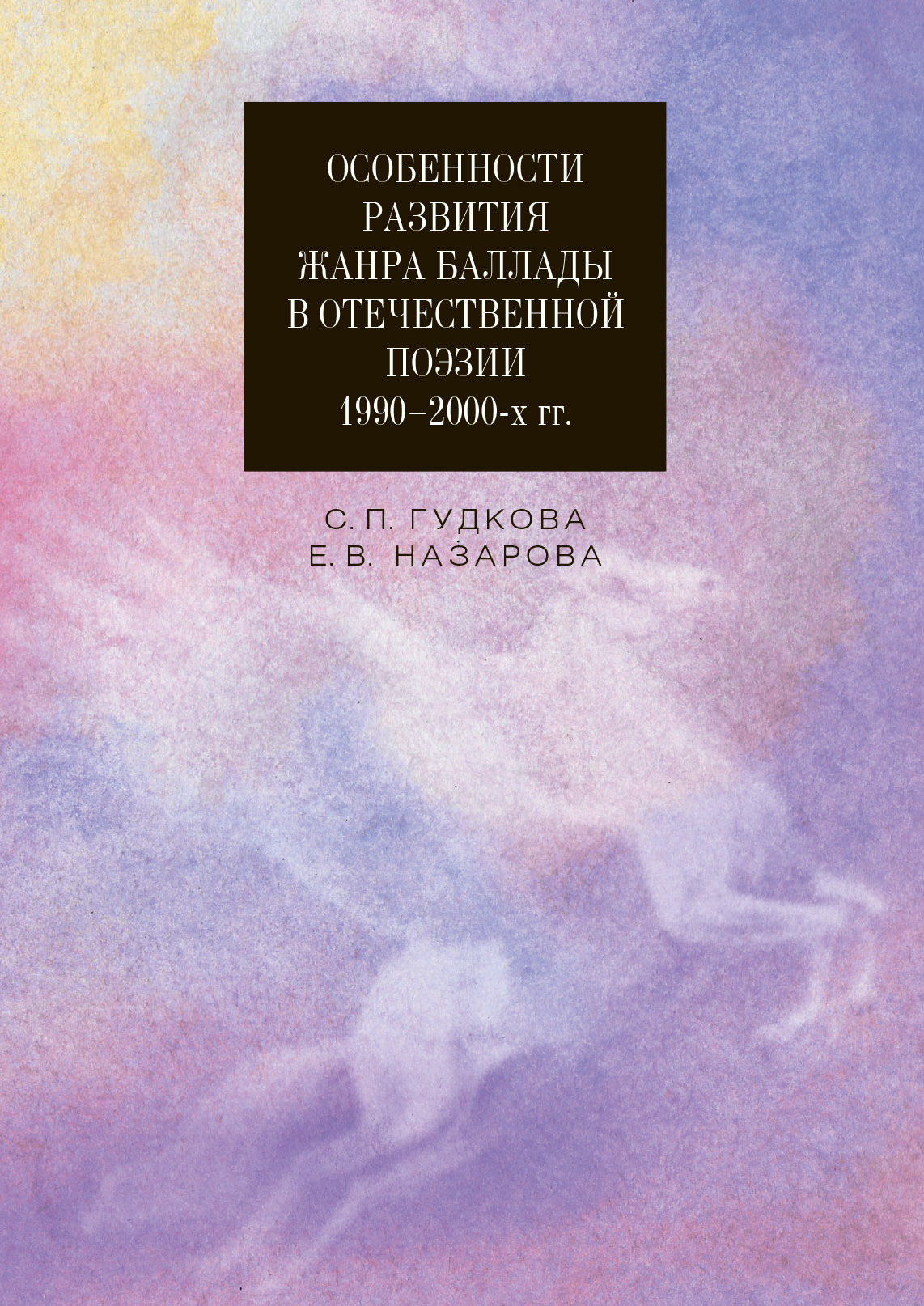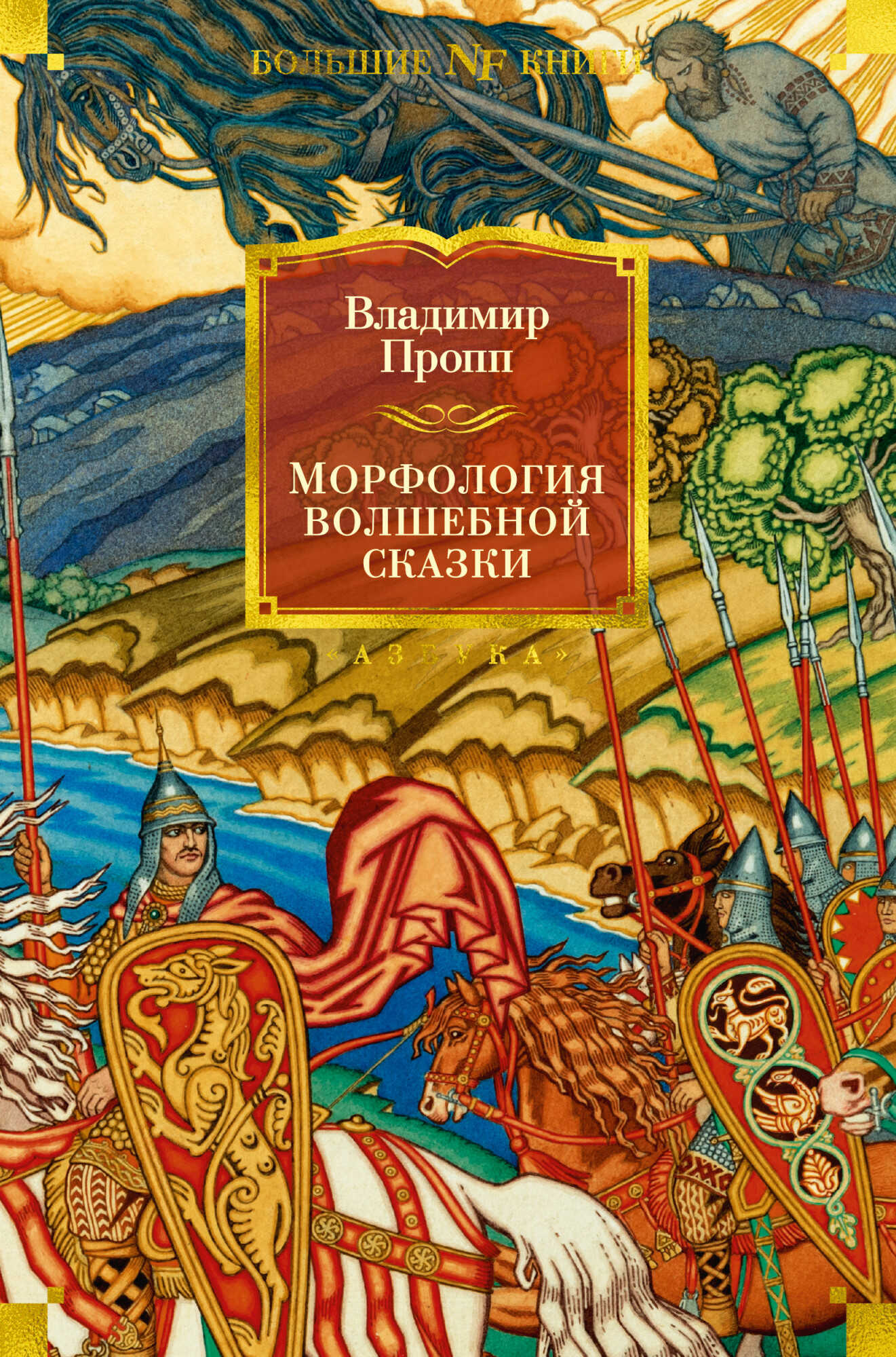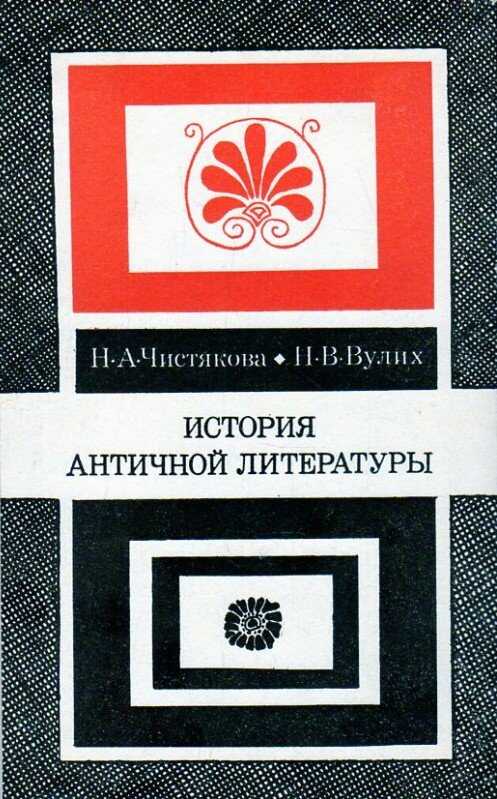Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории - Семен Аркадьевич Экштут Страница 34
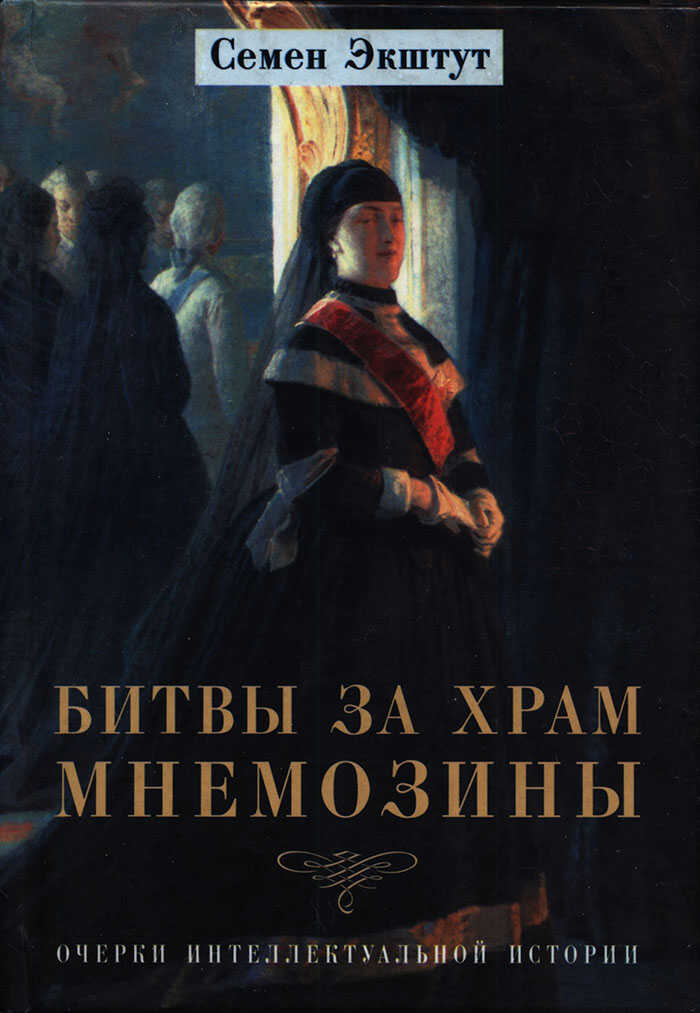
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Литературоведение
- Автор: Семен Аркадьевич Экштут
- Страниц: 40
- Добавлено: 2024-11-03 14:03:34
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории - Семен Аркадьевич Экштут краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории - Семен Аркадьевич Экштут» бесплатно полную версию:Книга состоит из шести относительно независимых эссе, объединенных общим замыслом. Это — серия расследований, посвященных неизвестным аспектам творческой деятельности известных мастеров: писателей, историков, художников. Почему Пушкина, желавшего практически реализовать выгодный коммерческий проект, постигла неудача? Как ответить на загадку, которую загадал зрителям Н. Н. Ге в картине «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы»? Почему современники не смогли разгадать секрет этой картины, которая в настоящий момент хранится в фондах ГПТ и до сих пор не экспонируется? Какую роль играла комнатная собачка в любовном быте XVIII столетия и каким образом с помощью произведений литературы и живописи можно ответить на этот неожиданный вопрос?
Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории - Семен Аркадьевич Экштут читать онлайн бесплатно
Третьяков: «Спрашиваю время от времени прислугу галереи, и оказывается, что никто ее не одобряет, а осуждающих, приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галерее, — масса. До сего времени я знаю только троих, оценивших эту картину, и к ним могу еще прибавить двух посетителей, о которых Вы говорите; может быть, на самом деле только и правы эти немногие и Правда со временем восторжествует, но когда?»[250].
Толстой: «Оно иначе и быть не может. Если бы гениальные произведения были сразу всем понятны, они бы не были гениальные произведения. Могут быть произведения непонятны, но вместе с тем плохи; но гениальное произведение всегда было и будет непонятно большинству в первое время…»[251]
Все это достойно того, чтобы попасть на страницы интеллектуальной истории. Но как следует писать о подобных сюжетах? Можно ли провести отчетливую границу между фактом быта и литературным или историко-культурным фактом?
«Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала великие творения, предмет наших изучений и восторгов»[252].
В этих словах Пушкин выразил собственное кредо: именно так он и относился к своим рукописям, храня и сберегая многочисленные черновики уже опубликованных произведений. (Как некогда очень точно заметил известный историк А. Г. Тартаковский, по отношению к собственному рукописному наследию Пушкин был настоящим Плюшкиным.) Впрочем, выразительному и претендующему на афористическую завершенность пушкинскому утверждению вполне позволительно противопоставить утверждение диаметрально противоположное, но не менее авторитетное.
Быть знаменитым некрасиво Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех[253].Итак, сам творец может лукаво или искренне утверждать, что подлинной ценностью для него является именно процесс творчества, а не его результат, и не придавать плодам собственного творчества особого значения. Суть дела от подобных манифестаций не меняется. Интеллектуальная история есть не только непрерывный процесс творческой деятельности, но и совокупность ее результатов, локализованных в пространстве и времени. Каждый из этих результатов имеет вещественное, качественное содержание и количественную, социальную форму. Образно интеллектуальная история легко представима в виде некоторого пространства, границы которого непрерывно меняются во времени: они постоянно пульсируют, расширяясь и сжимаясь[254].
Время — это пространство творческого развития человечества. Единство пространства и времени, осмысленное в системе философских категорий, предстает перед исследователем как хронотоп. Хронотоп есть исходный пункт и простейшая клеточка рассмотрения любой проблемы, имеющей отношение к интеллектуальной истории. Выход за границы хронотопа делает дальнейшие изыскания бессмысленными. Однако прежде чем приступить к таким изысканиям, следует договориться о том, что следует принять в исследовании творческой деятельности за нулевое значение времени: первоначальное возникновение замысла, начало практического воплощения этого замысла или его окончательное завершение[255]. Интеллектуальной истории нужно свое время «Ч», подобно существующему в военном деле условному обозначению «времени начала атаки переднего края обороны противника, форсирования водной преграды, выброски (высадки) воздушного (морского) десанта»[256]. В настоящее время подобная договоренность отсутствует: у специалистов по интеллектуальной истории нет своего времени «Ч», они обходятся без этой метафоры, а ведь без нее невозможно согласовать действия различных исследователей.
Интеллектуальная история знает несколько равноправных способов освоения этого пространства исследователем, что порождает одновременное существование различных типов исторического повествования, которые, в конечном итоге, могут быть сведены к двум диаметрально противоположным.
Во-первых, исследователь может попытаться встать на точку зрения творца и рассмотреть творческую деятельность как нечто самодостаточное, оправданное не полученным результатом, а самим фактом своего существования. При таком подходе основное внимание уделяется прежде всего процессу творчества, т. е. подробному рассмотрению всех перипетий, связанных с эволюцией творческого замысла при создании произведения. На первый план выступает именно процесс достижения автором искомого результата, а не бытование уже созданного произведения в пространстве и времени. Исследователь вольно или невольно исходит из определенных философских и мировоззренческих предпосылок, признавая или отказываясь признать принципиальную познаваемость акта творчества.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.