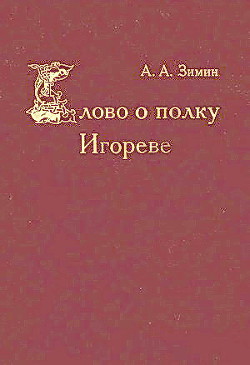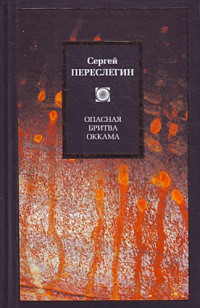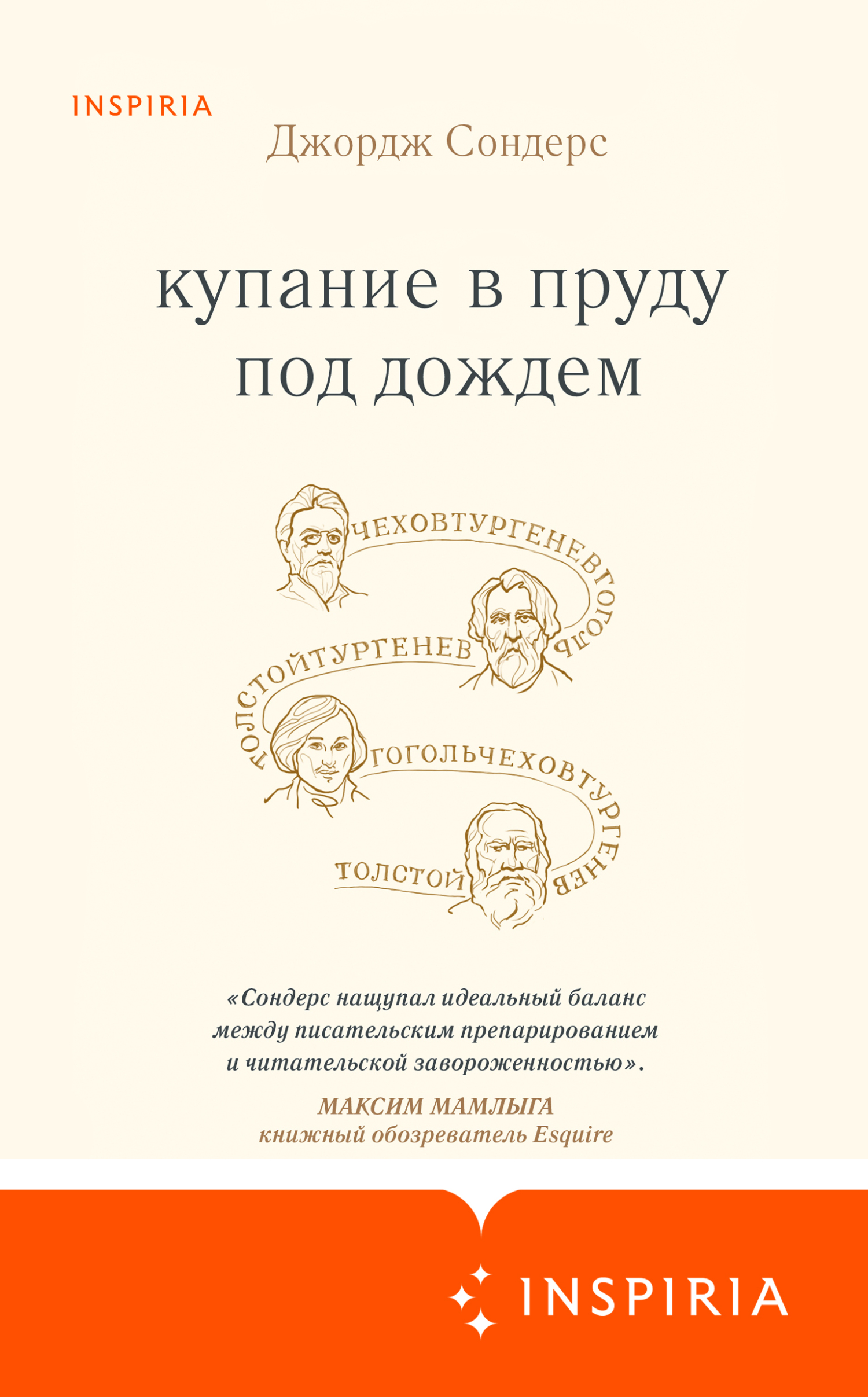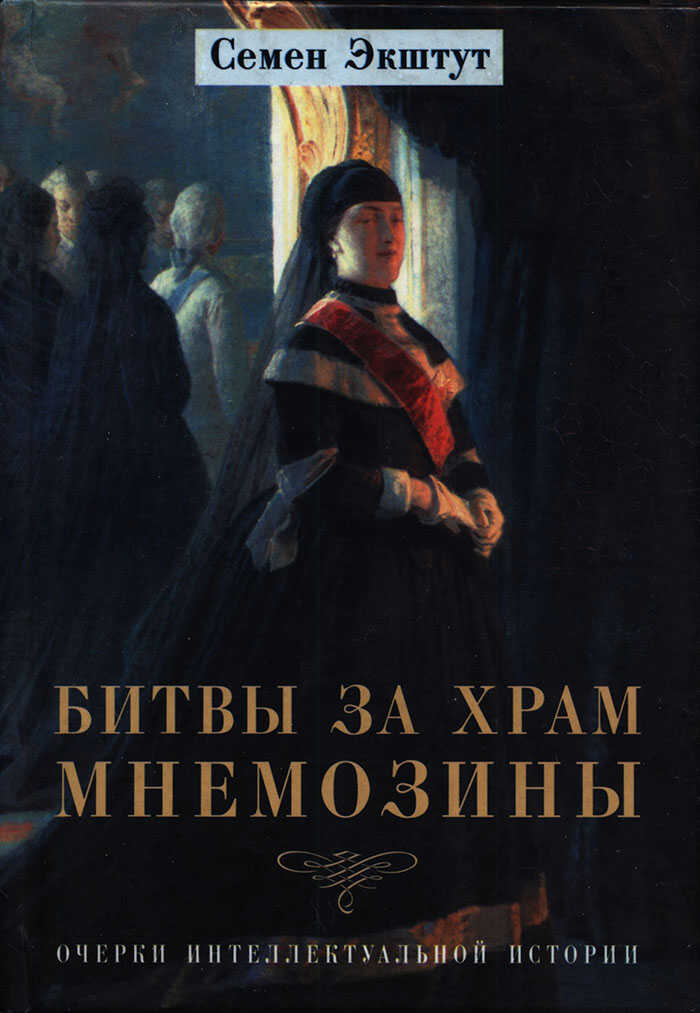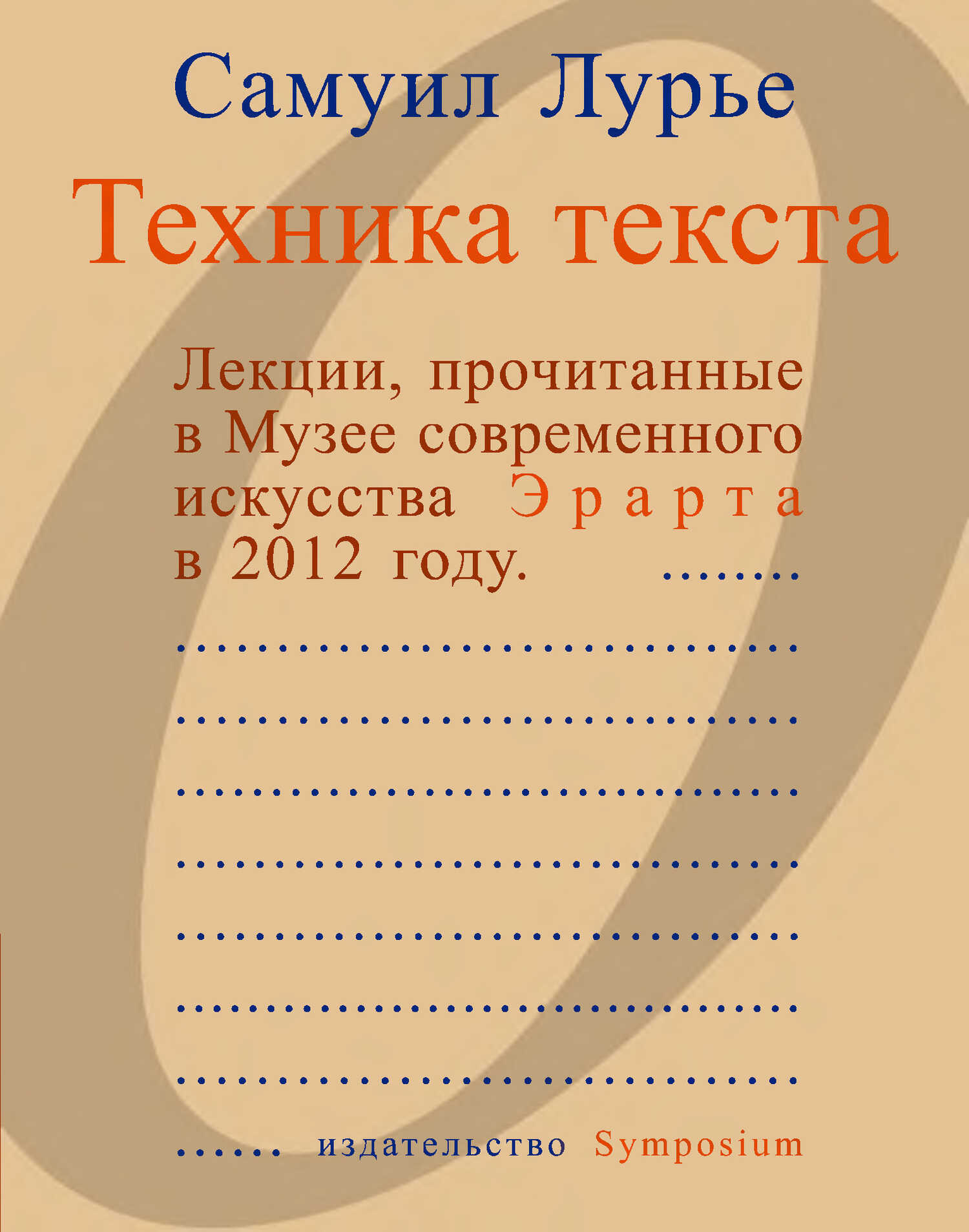От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин Страница 30
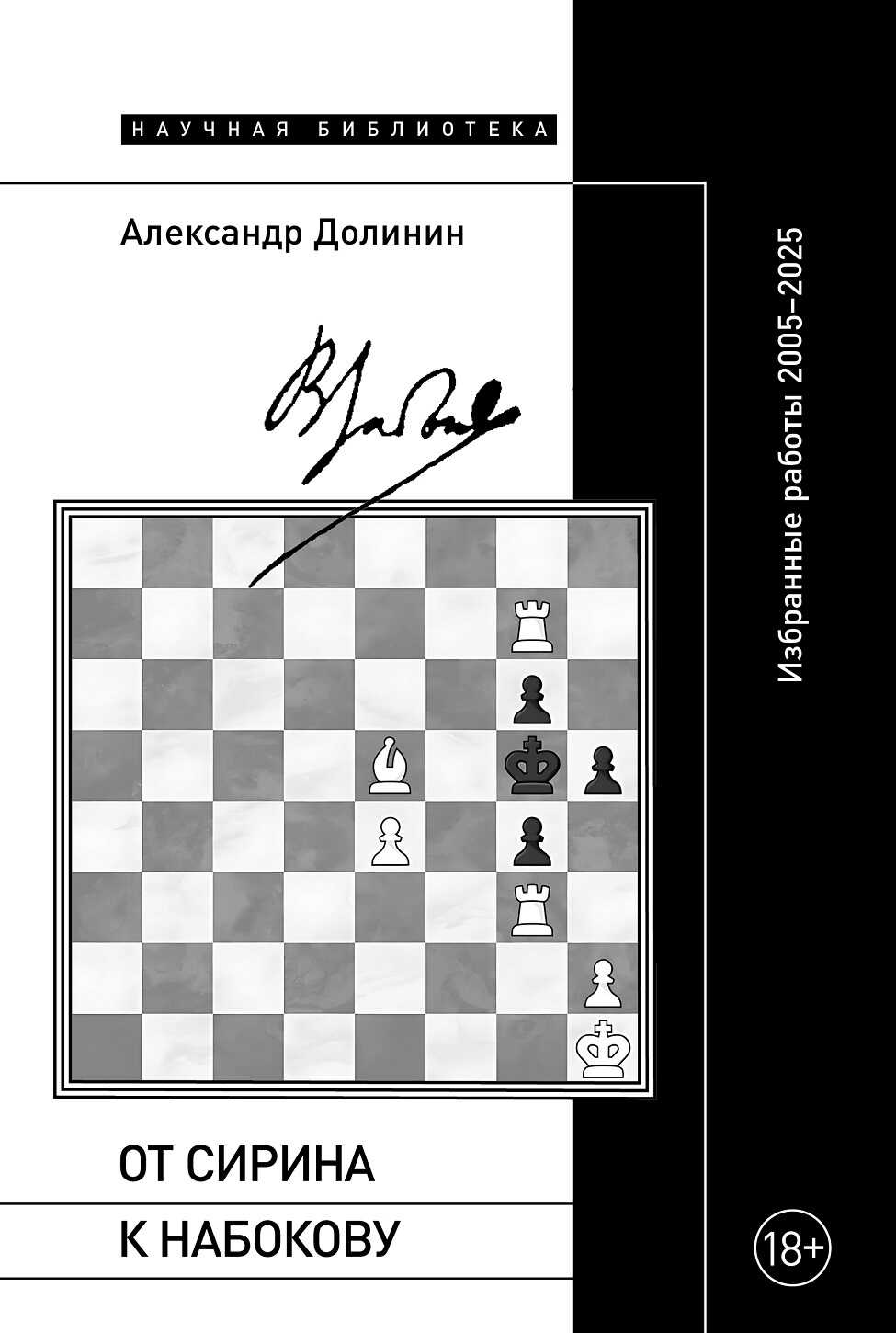
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Литературоведение
- Автор: Александр Алексеевич Долинин
- Страниц: 141
- Добавлено: 2025-10-28 09:11:53
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин» бесплатно полную версию:Сборник статей известного филолога Александра Долинина посвящен прозе Владимира Набокова. В первом разделе книги автор рассматривает русскоязычные романы и рассказы писателя в их многообразных связях с русской классической и современной литературой. Большое внимание уделяется его полемике с эмигрантскими и советскими прозаиками и критиками – Г. Адамовичем, И. Буниным, Ю. Тыняновым и другими. Во второй раздел вошли работы автора о нескольких англоязычных произведениях Набокова, в том числе – прежде не печатавшаяся статья «Русский субстрат „Лолиты“». В ней показано, как Набоков ввел в свой американский роман целый ряд аллюзий на русскую литературу и искусство, создав образ всесильного двуязычного автора, играющего со своим ненадежным героем-рассказчиком и с читателями, которые эту игру не замечают. В приложение к книге включены две комментированные публикации архивных материалов – подготовленная вместе с Г. М. Утгофом рецензия Набокова на три поэтических сборника, вышедших в Берлине в 1924 г., и его письма к Г. П. Струве (1925–1935).
От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025 - Александр Алексеевич Долинин читать онлайн бесплатно
Правильная онегинская строфа, которой написаны эти финальные строки, не только предлагает новый код для перечитывания «Дара», отсылая к облачному дню, с которого начинался роман, но и указывает на важную связь структуры повествования со структурой «Евгения Онегина», в котором автора связывают с героем сложные отношения отождествления и расподобления, сходства и различия.
В статье «Автор, герой, поэт» Ходасевич сравнил отношения между Пушкиным и Онегиным с окружностью, в которую вписан многоугольник:
Онегин по отношению к Пушкину есть многоугольник, вписанный в окружность. Вершины его углов лежат на линии окружности: в некоторых точках Онегин, автобиографический герой, так сказать, простирается до Пушкина. Но площадь круга больше площади вписанного многоугольника: П > О. Следственно П = О + х. Решение этого уравнения подсказывается само собой: х = Поэт. <…> Иными словами – Герой есть Автор минус Поэт: Автор, лишенный своего поэтического, творческого начала.
Увеличивая число сторон вписанного многоугольника, мы увеличиваем его площадь, приближая ее к площади круга. По мере того, как увеличивается число точек совпадения между Героем и Автором, разница между ними уменьшается[259].
Если применить математическую аналогию, предложенную Ходасевичем, к «Дару», можно увидеть, что Набоков коренным образом изменил и усложнил первоначальную пушкинскую формулу, наделив Федора творческим даром и тем самым приблизив многоугольник Героя к окружности Автора. Однако, как заметил Ходасевич, «Герой никогда не дорастает до Автора, как площадь многоугольника не сравняется с площадью круга»[260]. Глазами Героя-Поэта Автор «Дара» смотрит не столько на самого себя и свою собственную жизнь, сколько на свое творческое сознание – или, лучше сказать, пытается заглянуть в самую его сердцевину, в центр круга, где спрятан наиболее ценный дар, которым наделены все подлинные творцы, живые или мертвые, реальные или воображаемые, люди или боги. В отличие от Ходасевича, считавшего Поэта «сверхчеловеком, олимпийцем, демоном», лишенным «страсти, чувства, морали, смерти»[261], Набоков ассоциирует творческое начало с agape. Поэт в Федоре – не страшный демон, а его подлинное «я», которое «писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину» [IV: 508]. «То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви» [IV: 540], – признается он Зине, раскрывая ей тайну будущего романа. В этом смысле сам «Дар» можно назвать «в некотором роде объяснением в любви» – любви творца к своему творению и твари к творцу, любви сына к отцу, любви изгнанника к родине, любви к языку и к тем, кто его любит, любви к красоте мира и, наконец, любви к своим читателям. Обратимся к роману.
Авторизованный перевод с английского Г. В. Лапиной
Две книги на стуле около кровати
(Анненский и Ходасевич в «Даре»)
В первой главе «Дара» рассказывается «очень простая и грустная» история, не имеющая прямого отношения к главному герою романа, Федору Годунову-Чердынцеву, – история, которая в свое время «осталась <им, как> писателем неиспользованной» [IV: 227]. Трое берлинских друзей, двое русских и немец, запутавшись в своих отношениях, решают покончить жизнь самоубийством. Холодным апрельским днем они приезжают в Груневальд, «чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться» [IV: 232]. Однако смелости хватает только первому из них – поэту-дилетанту Яше Чернышевскому, автору «стихов, полных модных банальностей» и жертве «сентиментально-умственных увлечений» [IV: 224]. В буераке, среди терновых кустов, под надзором «двух диких уток» (из Ибсена?) он убивает себя наповал выстрелом из револьвера. Пока струсившие друзья Яши, пытаясь его оживить, кропят и трут мертвое тело («так что он был весь измазан землею, кровью, илом, когда полиция нашла труп» – [IV: 234]), в комнате убитого, замечает рассказчик, «еще несколько часов держалась, как ни в чем не бывало, жизнь: бананная выползина на тарелке, „Кипарисовый Ларец“ и „Тяжелая Лира“ на стуле около кровати, пингпонговая лопатка на кушетке» [IV: 234].
Аллюзия на поэтические сборники Анненского и Ходасевича – по всей видимости, книги, за которыми Яша провел последнюю ночь жизни, – заставляет вспомнить о классической традиции придавать мотивирующее значение предсмертному чтению героических самоубийц, которые находят в прочитанном прецедент, оправдание и обоснование своего поступка. В трагедии Аддисона «Катон», (повлиявшей, как показал Ю. М. Лотман, на самоубийство Радищева[262]), римский герой перед тем, как броситься на меч, читает «книгу Платона о бессмертии души» (имеется в виду диалог «Федон»); у Вертера на столе находят «Эмилию Галотти» Лессинга, а у его российского подражателя в повести самоубийцы, М. Сушкова – вышеупомянутого «Катона». Само название книги Анненского в этом смысле может быть понято как сигнал: ведь кипарис, как известно, символизирует отчаяние, скорбь и смерть, ибо, по античному мифу, в это дерево превратился прекрасный мальчик, любимец Аполлона, который не смог перенести потери своего ручного оленя и – процитируем «Метаморфозы» Овидия:
Сам умереть порешил. О, каких приводить утешений
Феб не старался! Чтоб он не слишком скорбел об утрате,
Увещевал, – Кипарис все стонет! И в дар он последний
Молит у Вышних – чтоб мог проплакать он целую вечность.
Вот уже кровь у него от безмерного плача иссякла,
Начали члены его становиться зелеными; вскоре
Волосы, вкруг белоснежного лба ниспадавшие прежде,
Начали прямо торчать и, сделавшись жесткими, стали
В звездное небо смотреть своею вершиною тонкой.
И застонал опечаленный бог. «Ты, оплаканный нами,
Будешь оплакивать всех и пребудешь с печальными!» – молвил
(Х, 132–142)[263].
В традиционной эмблематике ветвь кипариса часто изображается вместе с кинжалом, вонзенным в грудь[264], то есть связывается с самоубийством. Наконец, в песне Шута из «Двенадцатой ночи» Шекспира «печальный кипарис» – это метонимия гроба («Come away, come away, death / And in sad cypress let me be laid» – II, 4, 51–52) или, иными словами, кипарисового «ларя»[265].
Заглядывая в комнату умершего, повествователь «Дара», наверное, предполагал, что читатель вспомнит жутковатое описание квартиры покойника в стихотворении Анненского «У гроба»:
В квартире прибрано. Белеют зеркала.
Как конь попоною, одет рояль забытый:
На консультации вчера здесь Смерть была
И дверь после себя оставила открытой.
Давно с календаря не обрывались дни,
Но тикают еще часы его с комода,
А из угла глядит, свидетель агоний,
С рожком для синих губ подушка кислорода…[266]
Хотя Анненский прямо не назван среди поэтов, которым Яша Чернышевский неумело пытался подражать в своих «патетических пэонах», дух автора трилистников и стихотворения «Трое» (о губительном для героя любовном треугольнике) незримо витает над Яшиным смертоносным «треугольником, вписанным в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.