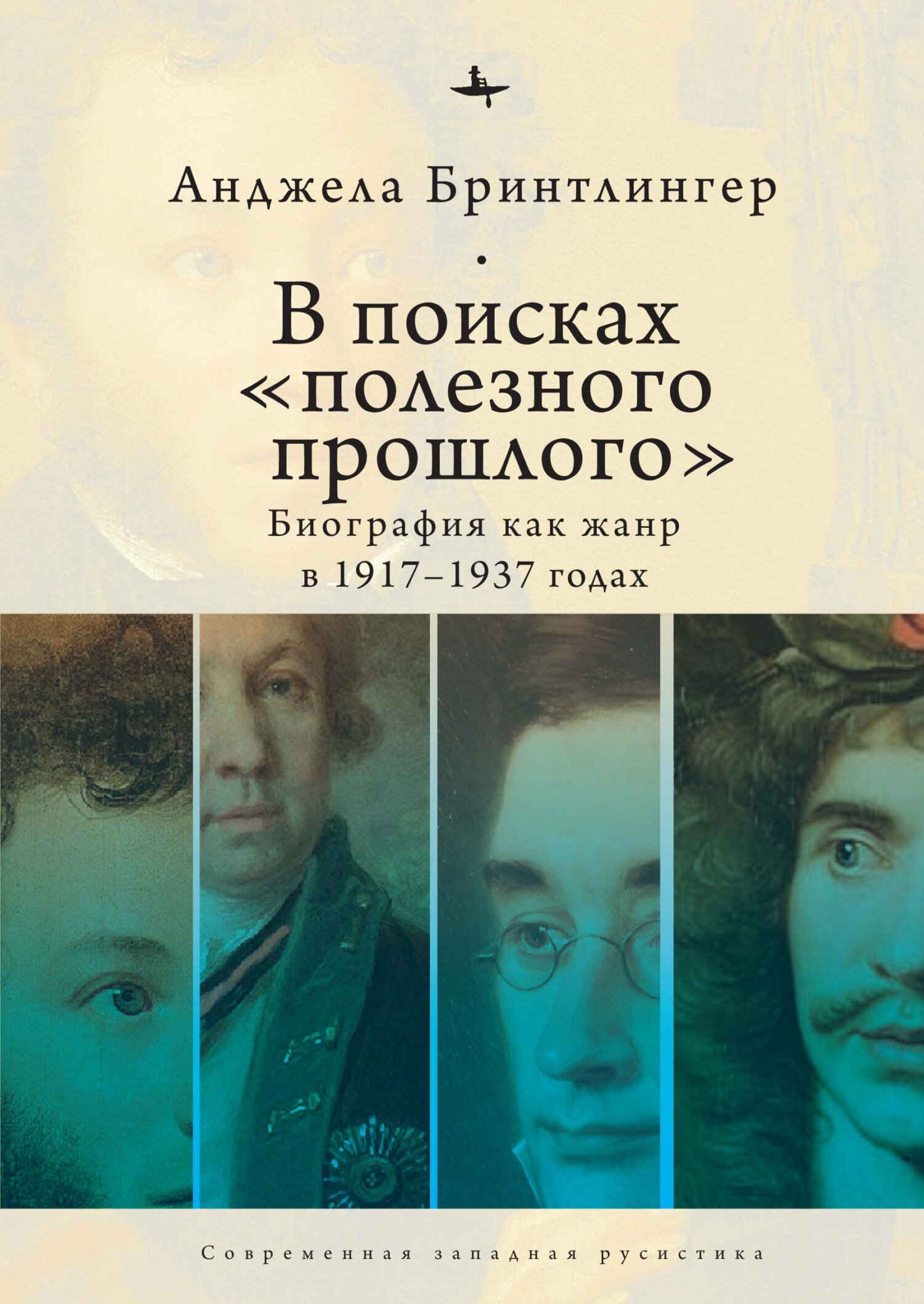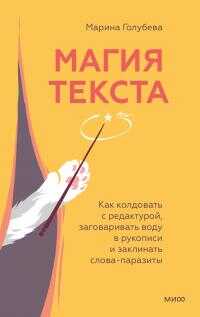Романы Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание» и «Идиот» - Наталия Юрьевна Тяпугина Страница 17
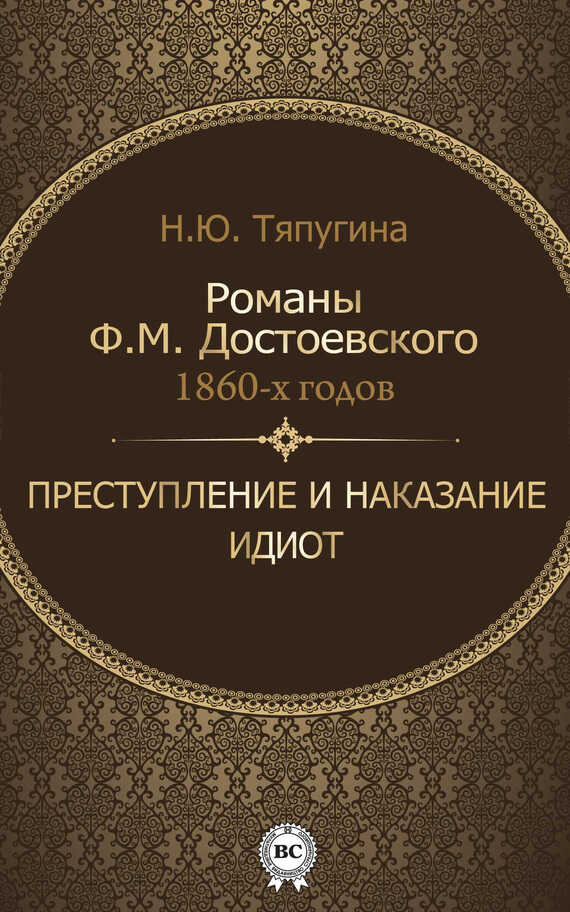
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Литературоведение
- Автор: Наталия Юрьевна Тяпугина
- Страниц: 62
- Добавлено: 2025-08-30 09:01:35
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Романы Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание» и «Идиот» - Наталия Юрьевна Тяпугина краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Романы Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание» и «Идиот» - Наталия Юрьевна Тяпугина» бесплатно полную версию:Автор книги поможет вам вдумчиво прочитать гениальные тексты Ф.М. Достоевского и глубже разобраться в них. Она будет вашим опытным проводником по бессмертным произведениям писателя – его романам «Преступление и наказание» и «Идиот». Это важно, поскольку тексты Ф.М. Достоевского требуют медленного, внимательного чтения, полного погружения в художественный мир автора. И на этом пути вас ждет немало открытий.
Адресована студентам и аспирантам-филологам, преподавателям-словесникам, всем, кто интересуется русской литературой и творчеством Ф. М. Достоевского.
Романы Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание» и «Идиот» - Наталия Юрьевна Тяпугина читать онлайн бесплатно
В этом проявляется и христианское доверие к Промыслу: «Да будет воля Твоя!» Но в этом же интуитивно-иррациональное понимание свободы как вместилища сразу двух стихий – добра и зла.
Зло, как и добро, есть дитя свободы. Оно так же глубоко заложено в основание человеческой природы, как и добро. Вот почему свобода – категория воистину трагическая, она лежит в центре бытия как его изначальная тайна. И Мышкину это, конечно, было ведомо. При его активном духовном учительстве, в стремлении к духовному общению он всегда апеллирует к внутренней самостоятельности человека. Призывая творить себя, он никогда не посягает на личную свободу другого, не диктует готовых решений, как бы ни был убежден в своей правоте.
Человек имеет право на ошибку, даже ошибку трагическую, потому что и смерть может стать новым рождением. Грех и искупление неразрывно связаны друг с другом. И не надо лишать человека благодати страдания и наказания. Все во благо, если человек свободен. Вспомним разговор князя с Рогожиным в его доме на Гороховой улице: «Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен… Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей (Настасье Филипповне – Н.Т.) непременная гибель. Тебе тоже погибель… может быть, еще пуще, чем ей» (210). И тем не менее – мешать не намерен. А намерен уговорить встревоженного Рогожина: «Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог». Но не случайно князя не отпускают дурные предчувствия и грустная уверенность в кровавой развязке: слишком неистов, оскорблен, унижен Рогожин. Слишком надломлена Настасья Филипповна. Нет веры, а есть лишь ее подсознательная потребность. Вот и на картину Гольбейна, изображающую невыносимые страдания распятого Христа, Рогожин смотреть любит! Что является, по сути, лишним доказательством принятия им суровой необратимости жизни, ее безудержной жестокости и безысходности; понимание ее как силы, от которой нет спасения.
Это неподъемная для человека ноша, вот почему пытается Рогожин, побратавшись с князем крестами, снять груз со своей души. Но даже просветлев на время сердцем, Рогожин не перестает быть пленником своего кошмара, своей нелегкой «планиды». «Дай же я хоть обниму тебя на прощанье, странный ты человек!» – вскричал князь, с нежным упреком смотря на него, и хотел его обнять. Но Парфен едва только поднял свои руки, как тотчас же опять опустил их. Он не решался: он отвертывался, чтобы не глядеть на князя. Он не хотел его обнимать» (224).
Князь Мышкин, пытаясь воздействовать на Рогожина, потому-то и жалеет его, что в полной мере понимает, сколь могучи силы необузданной стихии жизни. Он и сам их пленник. Выйдя от Рогожина, имея самое определенное представление о «градусе» его переживаний, обладая самыми отчетливыми дурными предчувствиями на его счет, князь поначалу благоразумно взял билет в Павловск, чтобы уехать и лишний раз не искушать безумного страдальца. Но почему-то он «вдруг бросил только что взятый билет на пол и вышел обратно из вокзала, смущенный и задумчивый». И Достоевский это объяснил так: «Его что-то преследовало, и это была действительность, а не фантазия…» (225). Это «вдруг», в полной мере отражающее всю импульсивность и непредсказуемость жизни, мы уже встречали в «Преступлении и наказании». Встретим в этом, да и других эпизодах романа «Идиот», многократно: «Он вдруг как бы что-то припомнил»; «ему вдруг сознательно пришлось поймать себя на одном занятии»; «вдруг начинал как бы искать чего-то кругом себя» и т. д.
Как будто кто-то ведет князя к дому, где должна(?) разыграться кровавая развязка, должно произойти искушение братоубийством. И Мышкин не шел, а влекся туда «почти в тоске», «сердце его билось от беспокойного нетерпения», ибо он чувствовал, что какими-то могучими силами он вовлечен в чудовищный эксперимент, выйти из которого – не в его власти. Приготовляется «высшая проба»: что пересилит – братское единение, духовная породнённость или буйная ревность, неистовая стихия жизни? «Чрезвычайное, отразимое желание, почти соблазн вдруг (!) оцепенили всю его (Мышкина – Н.Т.) волю». И даже зная почти наверняка, что Настасьи Филипповны нет дома – «иначе бы Коля оставил что-нибудь в «Весах», по условию», – князь, тем не менее, идет к ее дому: «конечно, не затем, чтоб ее видеть. Другое, мрачное, мучительное любопытство соблазняло его». Воистину:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Необъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог (А. С. Пушкин).
Не только Рогожина, но и себя испытывает князь, свое понимание жизни и людей: «Не преступление ли, не низость ли с моей стороны так цинически-откровенно сделать такое предположение!» «Но… разве решено, что Рогожин убьет?! – вздрогнул вдруг князь». «Отчаяние и страдание захватили всю его душу».
Мышкин чувствует всю провокационность своего поведения, вот почему заранее ищет оправдания: «Сердце его чисто: разве он соперник Рогожину?» Но главное – «пусть все это свершится свободно и светло». Ведь преображение Рогожина уже началось: «Рогожин за книгой, – разве уже это не «жалость», не начало «жалости»? Князь отгоняет свои предчувствия: «Нет, Рогожин на себя клевещет; у него огромное сердце, которое может и страдать и сострадать… Когда он узнает истину и когда убедится, какое жалкое существо эта поврежденная, полоумная, – разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина» (232).
Если дела обстоят именно так, то подозрительность князя «непростительна и бесчестна». Он виноват перед Парфеном. К тому же только слепой может не видеть, что Рогожин не злодей, а боец: «Он хочет силой воротить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна…» Но и Мышкину именно так – «до мучения» – нужно убедиться в том, что он непременно встретит «давешние глаза» у дома Настасьи Филипповны, что, увы, оправдаются «ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона» (234).
И хоть эти мысли мучили князя, хоть ощущает он их как чудовищные и унизительные, но… спор, извечный спор добра и зла, хаоса и умиротворяющей веры уже начался. И Мышкин при всей видимости выбора («вдруг неотразимое желание захватило князя – пойти сейчас к Рогожину, дождаться его, обнять его со стыдом, со слезами, сказать ему все и кончить все разом») уже не властен над собой, ему остается только подчиниться судьбе и ждать, когда все само разрешится.
И когда самые невозможные предчувствия сбылись, когда увидел князь в руках Рогожина нож, занесенный над ним,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.