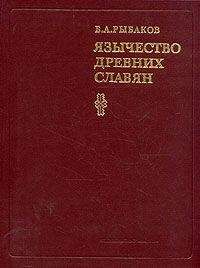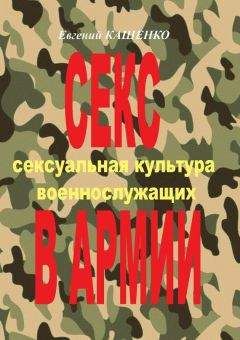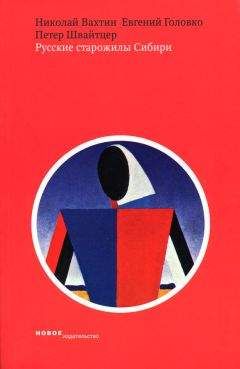Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения Страница 61

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Пьер Шоню
- Год выпуска: -
- ISBN: -
- Издательство: -
- Страниц: 152
- Добавлено: 2020-11-15 06:17:08
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения» бесплатно полную версию:Пьер Шоню, историк французской школы «Анналов», представляет уникальную в мировой культуре эпоху европейского Просвещения, рожденную из понятия прогресса (в сфере науки, технике, искусстве, общественных структур, философии) и приведшую к французской революции. Читатель увидит, как в эту эпоху повседневность питала дух творчества, открытий и философских размышлений и как, в свою очередь, высокие идеи претворялись на уровне обыденного сознания и мира материальных вещей. Автор показывает, что за великими событиями «большой» истории стоят не заметные ни на первый, ни на второй взгляд мелочи, играющие роль поистине пусковых механизмов исторического процесса. Попробуйте задуматься, каким образом завезенная англичанами из колоний привычка пить чай привела к увеличению продолжительности жизни европейцев и возможности получить лучшее образование, или, например, поразмышляйте, какая связь между «Энциклопедией» просветителей и заменой в домах XVIII века сундуков шкафами.
Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения читать онлайн бесплатно
«Великий век, под которым я подразумеваю XVIII…» Таким образом, Мишле хотел подчеркнуть свое предпочтение века изобретающего перед эпохой иллюстрирующей. Перспективу необходимо перевернуть. XVII и XIX изобретают, XVIII иллюстрирует, накапливает и подготавливает. Середина века — плоская равнина, вершины располагаются в начале и конце.
Благодаря силе инерции нового исчисления конец XVII века пришел к чему-то вроде классицизма в области математического аппарата. С середины XVIII века Дидро, который не был докой в этом деле, становится выразителем ощущения, что достигнута вершина, абсолют, который невозможно будет превзойти. Его скрытый панпсихизм, заставлявший его колебаться между деизмом и поверхностным атеизмом, неизменно оставаясь верным пантеизму, отвращал его от математики. Восемнадцатый век, неостановимо следовавший за Гельвециями, Гольбахами и Ламетри, едва не отказался от основной аксиомы своего успеха, выдвинутой в «Saggiatore» («Пробирных дел мастере»), — о том, что книга природы написана языком математики.
Подъем новых наук был обусловлен по меньшей мере двумя причинами: XVIII век страстно любил жизнь; науки о природе топтались на месте; началось массовое наступление истории и других общественных наук, делавших только первые шаги. У небесной механики и чистой математики уже был за плечами век. Они миновали этап легких открытий и обольстительной новизны. Ученые женщины XVIII века уже не забавлялись с рефрактором, они слушали лекции аббата Нолле и вдохновлялись тайной электричества. Химия начинается только в самом конце XVIII века, атомистическая теория формируется в середине XIX. Без атомистической физико-химии математика не смогла бы справиться со сложной природой материи и a fortiori жизни. Подъем естественных наук позволил дойти до типо-логически-дескриптивного этапа познания. Для невзыскательного Дидро математика служила ключом к небесной механике, но была бессильна перед сложностью реальной жизни.
Вторая причина этого отступления по сравнению с пан-математизмом XVII века — сама сложность новой математики, отпугивающая любителя. Педагоги-иезуиты XVIII века были правы, говоря, что приобщаться к ней следует с младых ногтей.
Прогресс математики загонял математиков в золотую клетку, совсем непохожую на то положение, которое они занимали в XVII веке. Три практически очевидных стадии: мощнейший всплеск на волне достижений Ньютона и Лейбница; поколение середины века во главе с Эйлером, д’Аламбером и Лагранжем; вершина математического классицизма в эпоху публикации великих трактатов ученых Парижской школы — Лагранжа, Лапласа, Монжа, Лежандра и Лакруа. Отметим, что в XVIII веке математика по-прежнему ограничена пределами густонаселенной Европы: впереди Франция, за ней — Англия и Швейцария в лице братьев Бернулли и великого Эйлера.
Рене Татон отвел швейцарцам, питомникам Женевы и Базеля, родине Бернулли, Херманнов и Эйлеров, решающую роль в математической «евангелизации» Европы, возродившей к жизни дремлющие итальянские культурные очаги и подготовившей обильный урожай, который принес XIX век на востоке, когда русские и польские ученые, сформировавшиеся в конце XVIII века, внесли важнейший вклад в рождение третьей математической эпохи.
В XVIII веке математик был главнейшим из ученых-техна-рей — это цена, преимущество и трудность приоритета, — ценившимся на вес золота восточными правителями, которые были озабочены наверстыванием отставания, призванным к участию в геодезических и геоастрономических предприятиях века. Время любителей закончилось, закончилось и время гениев-универсалов: Декартов и Лейбницев больше не будет. Дробление культуры — это, согласно Гусдорфу, великий разрыв, отсекший словесность и философию от древа познания и одновременно обособивший научную культуру, но дробление культуры — это еще и великий разрыв внутри научного сообщества stricto sensu, изолировавший от общего ствола чистую математику как техническую дисциплину. Парадокс, едва не уничтоживший в середине XVIII века научное чудо, когда биология, естественные науки, анекдотически-экспери-ментальная физика, лишившись неусыпного надзора первой по значимости из всех наук о человеке, потеряли равновесие. Начало и конец эпохи Просвещения: напрашивается сравнение между двумя величайшими умами века.
Лейбниц, последний из великих философов-система-тиков, был даже в большей степени, чем Ньютон, соизобре-тателем нового исчисления. И наоборот, Ньютон, небесный механик, тоже был немного философом в том смысле, в каком мы это понимаем. С другой стороны, Кант знал абсолютно всю науку своего времени. Это ему принадлежит первый набросок космологической теории, которую обычно приписывают Лапласу: никто не может представить себе Канта, работающего совместно с Лапласом и Монжем над усовершенствованием начертательной геометрии или над небесной механикой. Механистическая философия установила господство математики над познанием; множитель знаний, движение в сторону абстрактности привели к парадоксальным последствиям: математика, отделенная от универсума знаний всеобщего языка, впервые замкнулась в закрытом космосе чистой абстракции. Р. Татон определил XVIII век в математике как мир, уже полностью недоступный для любительства. Изоляция математики послужила примером, за ней последовали остальные. В этом отношении развитие математики также идет впереди и указывает путь. Математик — это еще не вполне сформировавшийся политехник мира, признающего его господство. Математик XVIII века отчасти находился в положении богослова XIII и логика XV века. «Эйлер интересовался музыкой в той же степени, что и оптикой и теорией Ньютона» (Татон). Д’Аламбер, философ-публицист, писал о музыке и о прикладной механике. Лаплас занимался теорией теплоты. В 1785 году Монж, Лежандр, Мёнье и Лаплас подписали протокол знаменитого опыта Лавуазье по синтезу воды.
На первом этапе — формализация, развитие, усовершенствование нового аппарата: пылкий энтузиазм по отношению к анализу бесконечно малых. Действительно, за пределами истории математики он определяет развитие всех областей знания. Первой была группа английских специалистов по анализу, начиная с К. Хейза (1704), X. Диттона (1706), Дж. Ходжсона (1736); второй — плеяда швейцарцев и французов: Даниил Бернулли (1700–1782), Эйлер (1707–1783), Клеро (1713–1765), д’Аламбер (1717–1783), на смену которым пришли Лагранж (1736–1813), Монж (1746–1718), Лаплас (1749–1827) и Лежандр (1752–1833). Вариационное исчисление, уточнение общего понятия о функции — благодаря в первую очередь Эйлеру, потом Лагранжу. Громадный прогресс алгебры, отныне занимающей плацдарм в крепости, который удерживала геометрия: мнимые величины, бесконечные алгоритмы, теория чисел. Поскольку высшее общество XVIII века было одержимо страстью к игре, Муавр, Стирлинг, Маклорен и Эйлер вслед за Паскалем, Ферма, Гюйгенсом и Якобом Бернулли внесли свой вклад в изучение вероятностей. Теория вероятностей и статистика далеко превосходили скромные потребности наук о человеке в пору их младенчества.
И тем не менее у XVIII века были свои великие геометры чистой воды: перспектива, необходимая для художника, начертательная геометрия, аналитическая геометрия. В 1777 году Монж приступил к исследованиям, которые в дальнейшем перевернули геометрию бесконечно малых. Восемнадцатый век довел до совершенства классическую механику. Это была необходимость, диктуемая извне — астрономией в эпоху Ньютона и после него. В 1736 году благодаря Эйлеру произошло рождение дисциплины, которую можно, не впадая в анахронизм, назвать рациональной механикой, за ним последовал д’Аламбер, чей «Трактат о динамике», опубликованный в 1743 году, когда автору было двадцать шесть лет, вскоре принес автору международную известность. Вместе с механикой жидких тел, в изучении которой Эйлер и д’Аламбер также сменяли друг друга, математика простирала руку в направлении «натурфилософии».
Астрономия XVIII века наконец перестала быть прихожей метафизики; это строгая позиционная астрономия, которая, отказавшись от онтологических поисков XVII века, далекая от проблем космогенеза, волнующих астрофизиков эпохи радиотелескопов, возделывает свою Солнечную систему, подтверждает результаты Ньютона и способствует окончательному поражению твердолобых континентальных картезианцев. Лишь в самом конце века Гершель (1738–1822) перенес вопрошающий взгляд с планет на звезды. Простой переход от топологии к небесной топографии, к звездной астрономии, a fortiori к галактической астрономии, требовал методов и физико-химической теории вещества, которая будет разработана позже, только после озарений Менделеева и работ Планка.
Если мы удаляемся от небесной механики — основной области математизации, доля описательности растет. До оптики добрались уже давно. Декарт сделал ее придатком геометрии. В XVIII веке она оказалась в центре дискуссии за и против Ньютона. Континент колеблется. Вольтер бросил на чашу весов весь свой литературный талант. В 1738 году в Лондоне выходят «Основы философии Ньютона». Сложная проблема: подвергается ли световой луч всемирному тяготению? Действительно, Ньютон и Вольтер задаются вопросом о природе света. Вольтер, как и Ньютон, думал, что скорость света зависит от плотности среды. Все спорят, проверяют, входят в раж; в дело вмешиваются любители — Марат, Друг народа, и Гёте, в то время как Эйлер продолжает отстаивать колебательную теорию. Геометрическая оптика исчерпала свой потенциал. Изучение света приводит к вопросу о строении материи. Возникают акустика, в век музыки, и теплофизика, в век Реомюра (1683–1757), первых термометров и промышленной потребности в источниках энергии.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.