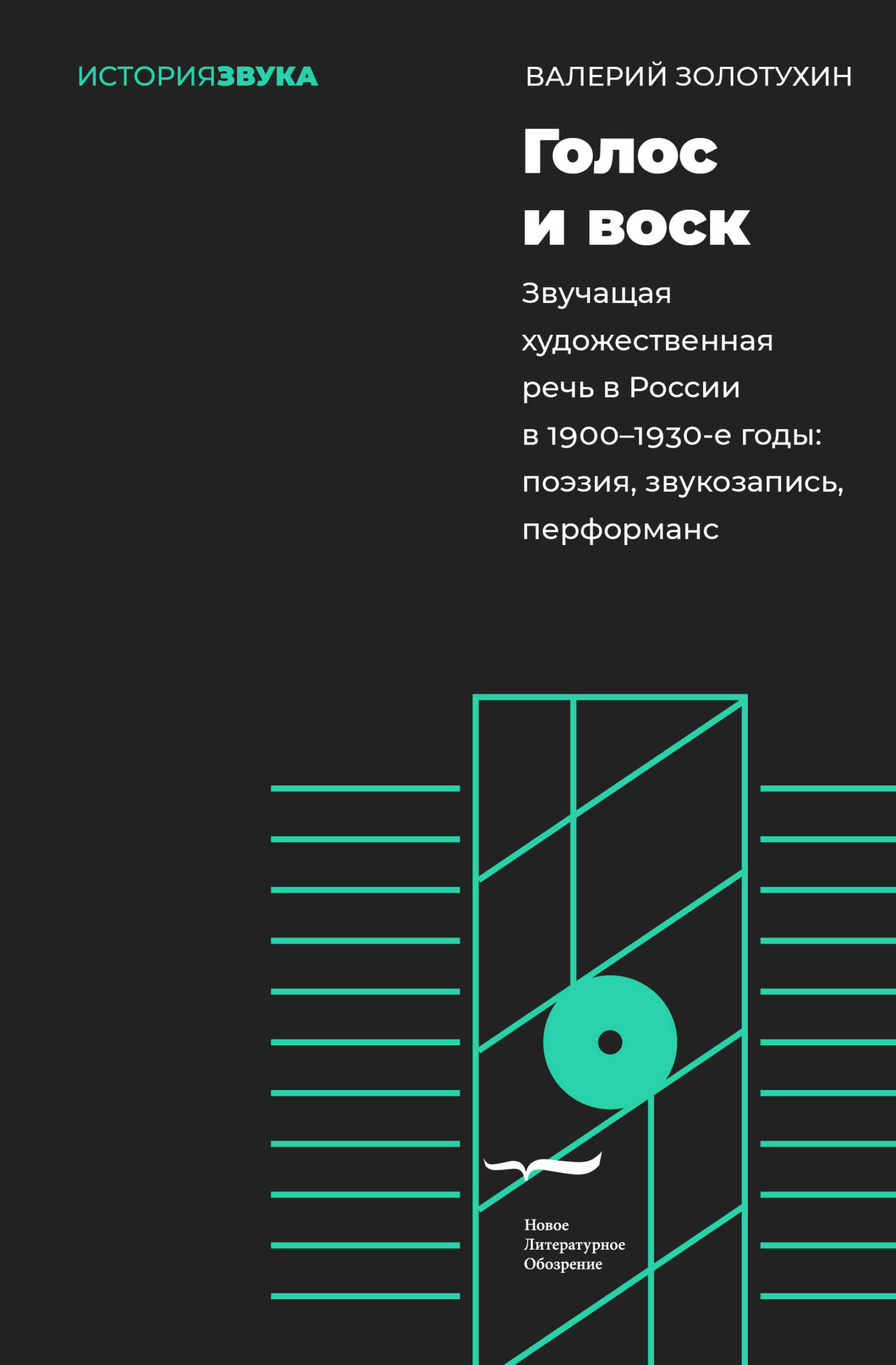Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках - Ксения Гусарова Страница 29

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Ксения Гусарова
- Страниц: 215
- Добавлено: 2025-07-01 11:46:20
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках - Ксения Гусарова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках - Ксения Гусарова» бесплатно полную версию:Карикатуры, на которых модницы превращаются в экзотических насекомых или обитателей моря; чучела птиц в качестве шляпного декора; живые гепарды как ультрамодный аксессуар – мода последних двух столетий очарована образами животных. Ксения Гусарова в своей монографии анализирует всплеск зооморфной образности в моде второй половины XIX века и стремится найти ответы на ряд важных вопросов: почему начиная с 1860-х годов зооморфизм становится лейтмотивом модных практик и как это связано с идеями Чарлза Дарвина? Что выбор зооморфных нарядов в тот или иной исторический период говорит о самих носителях и какие представления о природе выражают подобные образы? Как современные модельеры вроде Эльзы Скьяпарелли и Александра Маккуина переосмыслили наследие викторианской анималистики? Ксения Гусарова – кандидат культурологии, старший научный сотрудник ИВГИ РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС.
Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках - Ксения Гусарова читать онлайн бесплатно
Неприязнь к шлейфу нередко обосновывалась неудобством и даже опасностью, которые он в себе заключал. В публикациях «Панча» за 1867–1868 годы снова и снова воссоздаются ситуации, когда на «хвост» модницы кто-то наступает – что показательно, главным пострадавшим в этих случаях обычно оказывается не женщина, а мужчина. Для носительницы платья подобные инциденты лишь слегка досадны. Так, на одной из карикатур хозяйка дома обращается к гостю: «Ах, до чего это утомительно! Верно, кто-то опять наступил мне на платье. Не будете ли вы так любезны сбегать вниз и посмотреть, кто это, мистер Браун?» (Positively 1867). Для мужчин же эта мода таит в себе едва ли не смертельную опасность: «Не один бедолага набил себе синяков и шишек, внезапно зацепившись ногой за шлейф и шлепнувшись на тротуар» (Petticoats 1868).
Впрочем, не все мужчины питали к шлейфу ненависть и отвращение. Немецкий философ-эклектик Фридрих Теодор Фишер, чьи нападки на модные тенденции его времени будут подробно рассмотрены далее, к шлейфу, напротив, относился со «снисхождением и терпимостью»: «В нем есть действительно нечто античное, величественное, есть, наконец, стиль, который упрочивает за ним право на существование, несмотря на неудобство, как для носящих, так и для окружающих. Но его место отнюдь не на улице, где, поднимая столб пыли и волоча за собой кучу мусора, он роняет свое достоинство и превращается в непривлекательную, грязную тряпку. Место его и не в домашнем быту, где величие, в ущерб удобству, является неуместным. Он хорош только в исключительных, торжественных случаях, в бальной зале, при больших приемах и т. п.» (<Ф>ишер 1879: 12). Примечательно, что Фишер находит в шлейфе – узнаваемом атрибуте моды 1860–1870-х годов – «нечто античное». Вероятно, речь идет об особых скульптурных и живописных качествах драпированной ткани, которую не так часто можно было увидеть в костюме середины XIX века, и шлейф в этом плане являлся приятным исключением.
Сходные эстетические соображения могли побудить Ивана Крамского приделать шлейф к платью Веры Третьяковой на портрете 1876 года (Кирсанова 2019: 89). Сохранилась фотография, по которой выполнен портрет (Горленко 2010: 92–93), где можно различить покрой платья и убедиться, что догадка Р. М. Кирсановой об изначальном отсутствии шлейфа абсолютно верна. Справедливо также ее замечание о том, что «<ш>лейф, волочащийся по земле, считался дурным тоном и даже признаком дурного поведения» (Кирсанова 2019: 89) – это видно и из приведенной выше фишеровской цитаты. Однако возможность однозначно определить «непорядочную» женщину по ее костюму (в данном случае, по ношению платья с шлейфом на улице) и для историков, и для современников оказывается довольно призрачной, относясь скорее к области желаемого, нежели действительного – и Крамской не единственный, кто вносит путаницу.
И правда, уже в начале лета 1863 года София Мей в своей модной колонке пишет о шлейфах («трэнах») на улицах как об уходящем тренде: «Пышные юбки платьев поддерживаются, по-прежнему, кринолинами; но для утренних и простых платьев трэны положительно изгнаны. Как длинные волочащиеся платья величественны и аристократичны в салонах, так на улице они смешны и неприличны. Тут требуется совершенная простота – наряд знатной дамы не должен резко отличаться от толпы: есть одно отличие, неподражаемое, неуловимое, присущее только женщинам хорошего круга, – это вкус, выбор и что-то такое изящное, что непременно выскажется. Утренний костюм сделался костюмом официальным; платье, волочащееся по тротуару, дает понятие о непорядочности носящей его женщины» (Мей 1863в: 159). Однако год спустя Мей вынуждена повторить это увещевание, подкрепив его ссылкой на непогрешимую элегантность парижских модниц: «Не надо забывать, что [нижние] юбки составляют необходимую принадлежность туалета, в особенности летом, когда приходится так часто бывать на воздухе, стало быть, вздергивать платья, которые, по длине своих юбок, могут быть опущены только в комнате, но никак не на улице: женщина, влачащая за собой пыльный или грязный хвост, подает о себе странное мнение. В Париже никто не ходит по улицам с трэнами, и потому нижние юбки играют там важную роль, так как они более всего видны» (Мей 1864б: 156). Настойчивость, с которой журналы разного профиля на протяжении нескольких лет подряд вновь и вновь указывают на неприемлемость присутствия «хвостатых» модниц на городских улицах, аргументируя это соображениями гигиены, морали и даже общественной безопасности, позволяет понять, что многие женщины не спешили прислушиваться к подобным предостережениям и запретам, предпочитая руководствоваться своими собственными представлениями (или мнением своих портных) о красоте шлейфа и его уместности в той или иной ситуации.
Объявление нарождающегося, но предосудительного тренда отжившим – прием темпорализации (Fabian 1983), применение которого отнюдь не ограничивается XIX веком. Как известно, «изобретение» стиляг на страницах журнала «Крокодил» едва ли не предвосхищало появление данной субкультуры в реальности, однако первая публикация, обращавшаяся к этой фигуре и давшая ей название, – фельетон Д. Беляева «Стиляга» (1949) – вышла под рубрикой «Типы, уходящие в прошлое» (Вайнштейн 2006: 526; Дашкова 2021: 316). Критики нередко пытались использовать специфические временны́е структуры моды[54] для дискредитации эстетически и морально неприемлемых тенденций, однако едва ли это когда-либо вводило модников в заблуждение. Как отмечает О. Б. Вайнштейн, «стиляги оказались типами, уходящими отнюдь не в прошлое, а скорее в будущее» (Вайнштейн 2006: 527).
Советские карикатуры на модников, несмотря на стилистические отличия, использовали во многом тот же репертуар зооморфных черт, что и сатирические изображения XIX века. В первую очередь, это «звериная» пластика тела, складывающаяся под влиянием модной одежды и обуви, а также, в советском контексте, модных западных танцев[55] (Дашкова 2021: 317). В качестве ключевой мотивации модного поведения советская сатира, как и памфлетисты второй половины XIX века, называла «ловлю мужей», используя, таким образом, модифицированную идею «полового отбора»: согласно заключениям Татьяны Дашковой, «красивая хорошо одетая девица в рамках консервативной советской морали позиционируется ориентированной именно на замужество. Поэтому закономерно, что модная повестка чаще всплывает именно в связи с барышнями в поиске – девицы ловят обеспеченных мужей (на одежду)» (Там же: 325). Еще одним важным мотивом оказывается двойничество модников, одетых и причесанных одинаковым образом, причем в позднесоветском контексте на первый план выходит проблема размывания знаков гендера во внешнем облике: следование моде
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.