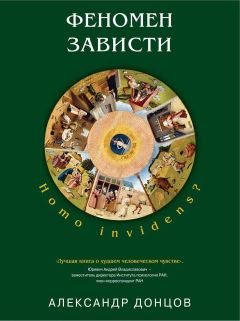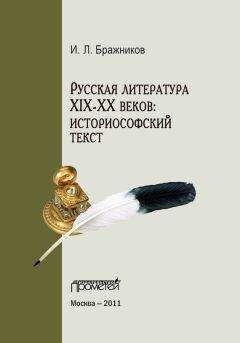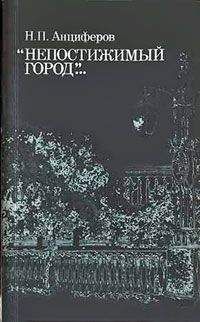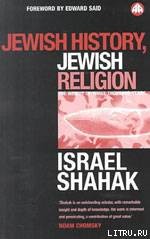Виктор Бычков - Русская средневековая эстетика XI‑XVII века Страница 25
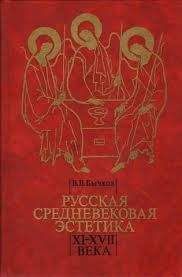
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Виктор Бычков
- Год выпуска: -
- ISBN: -
- Издательство: -
- Страниц: 179
- Добавлено: 2020-11-15 05:50:29
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Виктор Бычков - Русская средневековая эстетика XI‑XVII века краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Виктор Бычков - Русская средневековая эстетика XI‑XVII века» бесплатно полную версию:Монография В. В. Бычкова—первое в отечественной и зарубежной науке систематическое исследование становления и развития духовной и эстетической культуры на Руси. К изданию книги привлечен редкий и богатый иллюстративный материал по истории художественной культуры Средневековья.Книга рассчитана на широкий круг читателей.Виктор Васильевич Бычков (род. в 1942 г.), доктор философских наук, руководитель научно–исследовательской группы "Неклассическая эстетика" Института философии Российской Академии наук, член Союза художников России, автор более 140 научных работ — 60 из которых опубликовано за рубежом —по раннехристианской, византийской, древнерусской культурологии, эстетике, искусствознанию.Основные работы:Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977 (итал. изд. — 1983; болт. — 1984; венг. — 1988; серб., дрполн. — 1991);Эстетика поздней античности. II — III века (Раннехристианская эстетика). М., 1981 (рум. изд. — 1984); Эстетика Аврелия Августина. М., 1984;Эстетическое сознание Древней Руси. М., 1988;Эстетика в России XVII века. М., 1989;Эстетический лик бытия (Умозрения Павла Флоренского). М., 1990; Смысл искусства в византийской культуре. М., 1991 (с библиографией работ автора);Малая история византийской эстетики. Киев. 1991 (с библиографией работ автора).В настоящее время В. В. Бычков продолжает работу над "Историей православной эстетики".
Виктор Бычков - Русская средневековая эстетика XI‑XVII века читать онлайн бесплатно
У Илариона, как видим, христологическая антиномия складывается из антитетического ряда, в который он выстроил основные события земной жизни Христа, изложенные в Евангелиях и послужившие основой христианских праздников и церковного богослужения, христианской гимнографии и религиозной иконографии. Илариона не волнует вопрос, несколько веков будораживший умы византийских отцов церкви— как возможно (и возможно ли) неслитное соединение двух природ, двух воль, двух действий в Христе. Новозаветные события, выстроенные в антиномический ряд ясно читаемых пластических формул, служат ему бесспорным доказательством и выражением истинности догмата, который, что хорошо ощущал Иларион, был доступен сознанию древних русичей более в художественно–эстетической форме, чем в чисто богословской. Зрительные (иконографические) аналоги практически всех перечисленных Иларионом антиномических действий Христа ве1 рующие могли видеть на стенах храма, 4 в котором они слушали эту проповедь.
Еще, пожалуй, более эмоционально и образно выражает христологическую антиномию другой крупный мыслитель Киевской Руси—Кирилл Туровский. В «Слове о снятии тела Христова с креста» Иосиф Аримафейский, погребая тело Иисуса, в прощальном обращении к нему в ярких образах живописует антиномизм Богочеловека: «солнце незаходяй, Христе, Творче всех и тварем Господи!» Как прикоснусь я к телу твоему, неприкосновенному даже для небесных чинов, служащих тебе в страхе! Какой пеленою обовью тебя, повивающего мглою землю и облаками небо! Какие надгробные песни воспою исходу твоему, который уже немолчно славят в небе серафимы! Как понесу я на моих тленных руках тебя, невидимого Господа, носящего на руках весь мир! Как положу в моей жалкой гробнице тебя, утвердившего словом небесный круг! (ТОДРЛ 13, 422)[114].
Подобная риторская образность давала древним русичам значительно более глубокое представление о христианском абсолюте, чем любые богословские разъяснения. Большинство богословско–философских произведений первых русских книжников было облечено в форму красноречивых проповедей и было рассчитано больше на эмоциональноэстетическое воздействие, чем на интеллектуально–рассудочное. Так, сложная антиномическая диалектика закона и благодати Павловых посланий[115] воплощается у Илариона в антитетическую систему художественных образов–аллегорий, которую он строит на основе оппозиционного соотношения (сопоставления) ветхозаветных и новозаветных образов–событий. Образами закона и благодати у Илариона выступают рабыня Авраама Агарь и жена Сарра, а сама благодать творческим воображением русского книжника персонифицирована в Бога–Слово и дает советы самому Богу–Отцу.
Традиционное в целом для христианского мира соотнесение (по принципу прообразования) ветхозаветных событий с новозаветными приобретает у Илариона некоторый новый, весомый, художественно выраженный смысл.
«Сарра же сказала Аврааму: «вот обрек меня Господь Бог не рожать. Войди к рабыне моей Агари и родишь от нее». Благодать же сказала Богу: «Если еще не время сойти мне на землю и спасти мир, сойди на гору Синай и дай закон».
Послушался Авраам речей Сарриных и вошел к рабе ее Агари. Послушался и Бог Слов Благодати и сошел на Синай.
Родила раба Агарь от Авраама раба, сына рабыни, и назвал его Авраам именем Измаил. Вынес же и Моисей с горы Синай закон, а не благодать, подобие, а не истину» (Слово 170 6 — 171 а).
Зачатие же состарившейся Саррой Исаака прообразует зачатие Марии, а рождение Исаака—образ рождения «Благодати и Истины», то есть Христа (171 а). И далее эта цепочка оппозиций–аналогий продолжается, утверждая в сознании слушателей более высокую ценность и истинность благодати перед законом, Нового Завета перед Ветхим, христианства перед иудаизмом, принявших христианство (в данном случае русичей) перед не принявшими.
Художественно–эстетическое восприятие и выражение сложной философско–религиозной проблематики станет со времен первых русских книжников нормой и специфической особенностью всего древнерусского философствования.
Эстетизация христологического антиномизма достигает своей высшей точки, пожалуй, в «Слове в неделю цветную» Кирилла Туровского. Размышляя о празднике «Входа Христова в Иерусалим», он пишет: ныне вся тварь веселится, а бесовские силы ужасаются. «Днесь горы и холми точат сладость; удолья [долины] и поля плоды Богови приносят; горнии [небесные чины] въспевают, а преисподняя рыдают; ангели дивятся, видящи на земли невидимаго на небесах, и на жребяти седяща—сущаго на престоле херувимсте; обступаема народы—неприступнаго небесным силам». Ныне младенцы с радостью восхваляют того, кого со страхом славят на небе серафимы; ныне въезжает на осле в Иерусалим тот, кто пядью измерил небо и дланью—землю; ныне «в церковь входит невъместимый в небеса» (ТОДРЛ 13,411).
Подобные поэтические (гимнографические) вставки наполняют слова, поучения и трактаты древнерусских мыслителей, что свидетельствует о характерной особенности древнерусского общественного сознания— философствовать и богословствовать в образной, художественной или полухудожественной форме, обращаться прежде всего не к разуму, но к чувству, к сердцу слушателей и читателей.
В эстетизированную форму, использующую яркие образы, облечена и новая этическая система, установившаяся с принята–ем христианства на Руси, в «Поучении» одного из самых образованных князей того времени—Владимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125)[116].
Владимир призывает своих детей и всех, кто слушает «сю грамотицю», постоянно иметь страх Божий в душе своей и творить милостыню «неоскудну», ибо в этом он видит «начаток всякому добру» (ПЛДР 1, 392). Далее со ссылкой на библейские и раннехристианские тексты он поучает хранить душу и тело в чистоте, быть кроткими и почтительными к старшим, негневливыми, немстительными, не увлекаться едой, питьем и женщинами, остерегаться лжи, пьянства и блуда, быть гостеприимными и милостивыми к больным и нищим, хорошо помнить все, что знаешь, и изучать то, чего не знаешь, быть трудолюбивыми и добродетельными, врагов своих побеждать покаянием, слезами и милостынею (396—400).
Основной свод этических норм, выработанный человеческой культурой с древности до раннего Средневековья и закрепленный в христианской этике, был с пониманием принят на Руси. И хотя он здесь, как, собственно, и повсеместно, оставался в целом лишь идеалом, практически и в принципе недостижимым для обычного человека, живущего в реальном историческом обществе, именно в качестве идеала он оказался вполне отвечающим нравственным потребностям русского человека раннего Средневековья.
С особым воодушевлением воспринята была на Руси основная идея христианской этики—идея любви к ближнему, которую по патристической традиции основывали на любви Бога к людям [117]. Феодосий Печерский (середина XI в.) проникновенно и ярко описывает божественное человеколюбие и призывает людей подражать ему. Из любви к человеку Бог сотворил его и согрешившего не оставил в погибели, но ради снятия с него греха сам претерпел страдания и смерть, и на своих плечах внес человека на небо и посадил его «одесную Отца» (ПДРЦУЛ 1, 38). Много о человеколюбии и милосердии Христа писал и Кирилл Туровский, призывая людей следовать божественному примеру—возлюбить Бога и своих ближних.
Основы христианской этики, в центре которой стоит принцип любви к ближнему, еще в середине XI в. кратко изложил новгородский епископ Лука Жидята. «Любовь имеите со всяцем человеком, а боле з братиею, и не буди ино на сердци, а иновъ устех»[118], —писал он, излагая основные христианские заповеди о справедливости, милосердии, негневливости, терпении, великодушии, смирении, добродетельной жизни.
Феодосий Печерский со ссылкой на Бога призывал русичей быть милостивыми не только по отношению к своим единоверцам, но и к иноверцам. Если встретишь голодного, нищего или больного иудея, сарацина, булгарина, латинянина или какого иного еретика или язычника, «всякого помилуй и от беды избави я, яже можеши, и мъзды от Бога не лишен будеши», Бог ведь и сам заботится ныне о неверных (ТОДРЛ 5, 173).
Проповедь любви к людям в противовес вражде и распрям, постоянно царившим между русскими князьями, с особой силой звучит у русских летописцев, которые наиболее ясно видели печальные последствия для всего народа неисполнения этой вроде бы простой, но трудноосуществимой нравственной заповеди. Народ с неприязнью относился к братоубийственным стычкам между князьями, часто бывшими родственниками или братьями, как многочисленные дети князя Владимира. Не случайно первыми русскими святыми стали жертвы княжеской междоусобицы братья Борис и Глеб. Широко распространившийся в народе культ Бориса и Глеба, целый ряд литературных памятников, им посвященных[119], ясно выражают неприязнь народа к княжеским распрям. Именно поэтому христианская заповедь любви к ближнему под пером русских летописцев и в понимании их читателей часто превращалась в конкретный призыв к конкретным людям о прекращении взаимной вражды или в восхваление братской взаимопомощи. Прославляя князя Изяслава, пролившего кровь свою за брата, Нестор создает настоящий гимн любви как главному принципу бытия, сформулированному еще в Евангелии. «Аще кто речеть: любьлю Бога, а брата своего ненавижю, ложь есть». Как можно любить невидимого Бога, если не любишь брата своего, которого видишь? От Бога идет заповедь: «…да любяй Бога, любит* брата своего. В любви бо все свершается. Любве ради и греси расыпаются. Любе бо ради сниде Господь на землю и распятъся за ны грешныя, взем грехы наша, пригвозди на кресте,…Любве ради мученици прольяша крови своя. Любве же ради сий князь пролья кровь свою за брата своего, свершая заповедь господню» (ПЛДР 1,214—216). Христианские формулы основных нравственных норм и законов сразу же наполнялись на Руси конкретным историческим, социальным или бытовым | содержанием, переносились на почву реаль — «ной действительности и или укоренялись Щ в ней в качестве жизненно значимых ориентиров, или отбрасывались как не имеющие практического применения. Во многом этот вывод относится и к сфере эстетики.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.