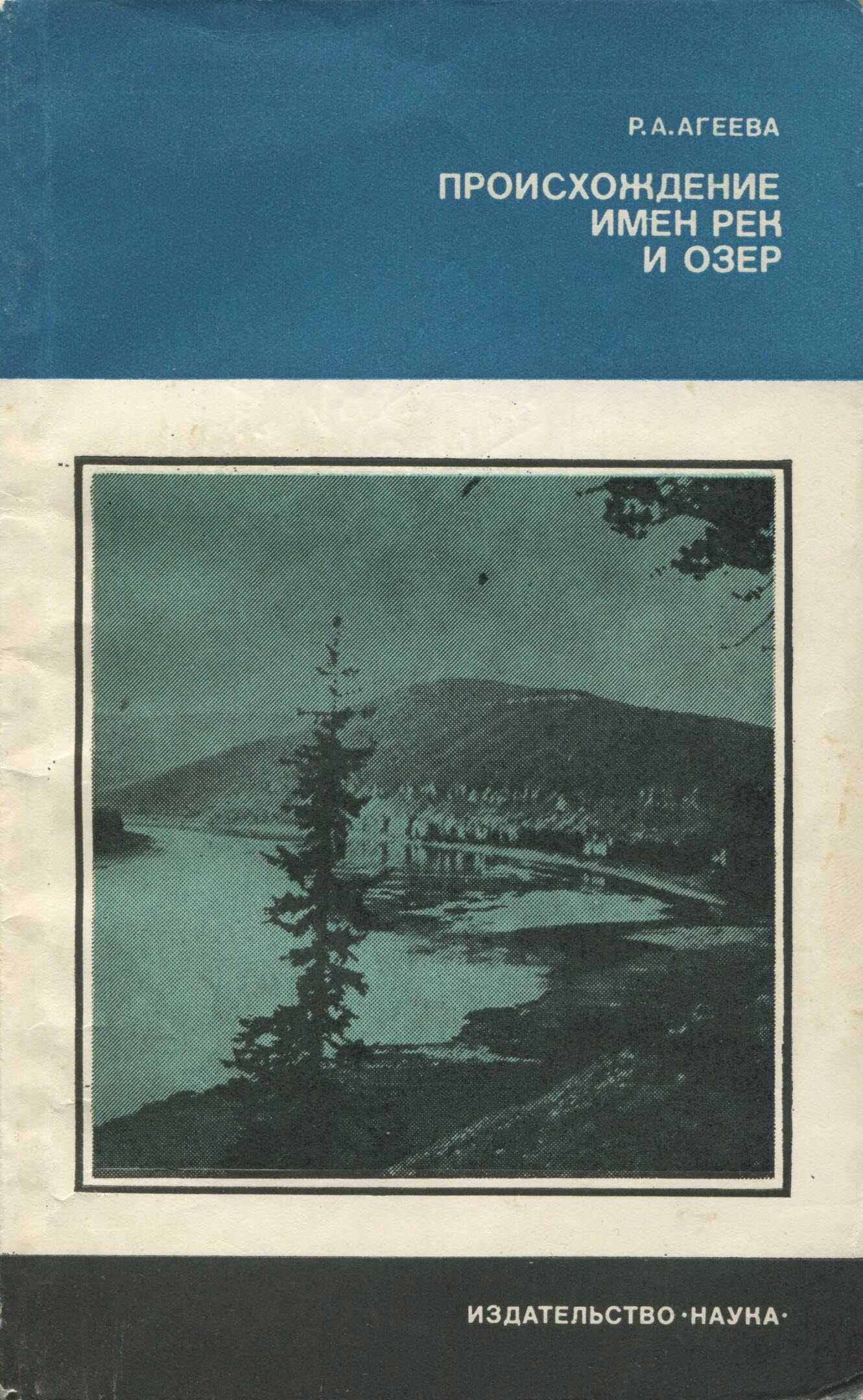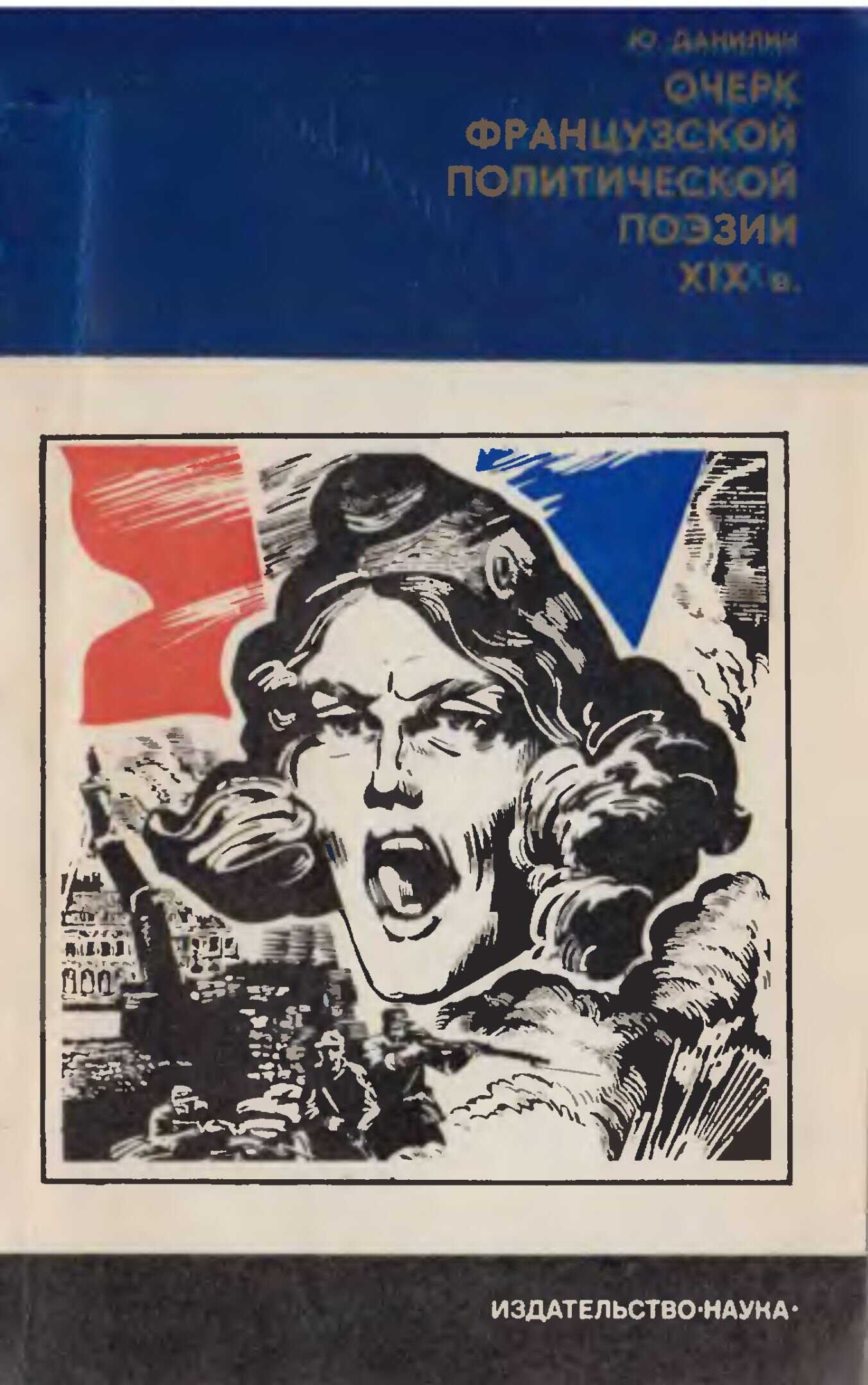Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - Михаил Львович Сергеев Страница 9
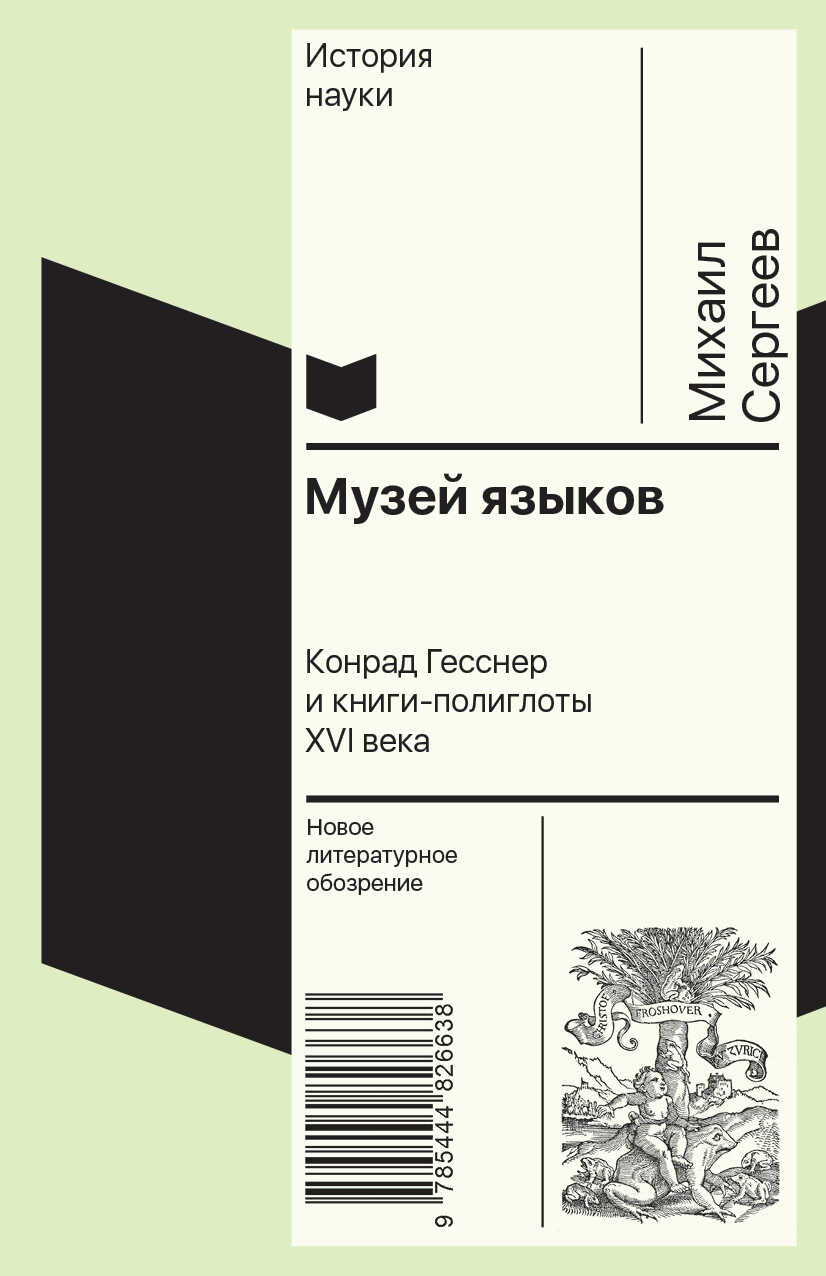
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Михаил Львович Сергеев
- Страниц: 78
- Добавлено: 2025-08-30 09:00:55
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - Михаил Львович Сергеев краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - Михаил Львович Сергеев» бесплатно полную версию:Книга Михаила Сергеева посвящена представлениям о многообразии и классификации языков в раннее Новое время в их связи с развитием гуманитарных и естественных наук. В центре внимания – новый жанр ученой литературы, возникший в XVI веке и позволивший охватить стремительно расширявшийся объем знаний о языках мира, а именно книги-полиглоты, то есть книги, «говорящие на многих языках». Автор изучает историю издания и устройство самого знаменитого и влиятельного полиглота – алфавитного справочника «Митридат. О различиях языков» (1555) К. Гесснера, активно привлекает материалы других источников (сочинения Г. Постеля, Т. Амброджо дельи Альбонези, Т. Библиандера, А. Рокки, К. Дюре, К. Вазера), обращается к важнейшим вопросам, связанным с развитием наук в раннее Новое время – соотношению «старого» и «нового» знания в творчестве гуманистов, механизмам коммуникации и обмена, действовавшим в Республике ученых, стратегиям преодоления «информационной перегрузки» в эпоху печатной книги. Книга содержит первый на русском языке подробный очерк биографии и научных занятий автора «Митридата» – цюрихского полимата Конрада Гесснера. Михаил Сергеев – филолог, исследователь интеллектуальной истории раннего Нового времени, старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН и Российской национальной библиотеки.
Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - Михаил Львович Сергеев читать онлайн бесплатно
Глава 2. Первые книги-полиглоты
Одним из ответов на заметное увеличение доступной информации о языках (Swiggers 1997, 138–157) и пробуждение у читающей публики любопытства к разнообразию языков и письменностей стала подготовка на протяжении XVI в. целого ряда изданий, которые были специально посвящены языкам и определенным образом представляли (выводили на обозрение ученой публики) значительное их число: от дюжины до полусотни и даже больше. Эти книги мы, вслед за Гесснером, называем «полиглотами»[82] в силу того, что многообразие языков было явлено в них самым наглядным образом – в виде транскрипций слов и текстов или записей в оригинальной графике. Кроме того, в книгах-полиглотах могли сообщаться сведения об истории языков и народов, грамматические и этимологические комментарии; однако непременной их составляющей были именно образцы текстов на разных языках.
К первым полиглотам относятся «Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum» (1538) Гийома Постеля, «Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, & decem alias linguas» (1539) Тезео Амброджо дельи Альбонези, «De ratione communi omnium linguarum et literarum commentarius» (1548) Теодора Библиандера и «Mithridates De differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt» (1555) Конрада Гесснера. Словарь лексических «созвучий» Зигмунда Геления – «Lexicum Symphonum quo quatuor linguarum Europae familiarium, Graecae scilicet, Latinae, Germanicae ac Sclavinicae concordia consonantiaque indicatur» (1537)[83] – уместнее рассматривать в лексикографическом контексте, как это делает Петер Мюллер (Müller 2001, 143–148).
Из сочинений 2‑й половины XVI–XVII в. к этому списку примыкают «Appendix de dialectis, hoc est de variis linguarum generibus» (1591) Анджело Рокки (основанный на «Митридате» Гесснера[84]), «Thresor de l’histoire des langues de cest univers» (1613) Клода Дюре, а также отчасти «Enquiries touching the diversity of languages and religions through the chief parts of the world» (1614) Эдуарда Брервуда и «Babel seu discursus de confusione linguarum» (1629) Христофа Кринезия (см. подробнее: Law 2003, 218–223; Swiggers 1997, 139–140). Однако ко времени создания последних работ собрания языковых образцов эмансипировались в самостоятельный жанр публикаций, первенцем которого стал «Specimen quadraginta diversarum atque inter se differentium linguarum & dialectorum, videlicet, Oratio Dominica, totidem linguis expressa» (1593) Иеронима Мегизера (и более полное издание 1603 г.).
В этой главе мы рассмотрим особенности содержания и структуры книг-полиглотов первой половины XVI в., предваривших появление «Митридата» и служивших для Гесснера источником идей и лингвистического материала. В первую очередь нас будет интересовать то, как авторы полиглотов объясняли необходимость составления и издания этих коллекций. Как и для чего в них включались языковые образцы? Какому читателю были адресованы эти книги?[85]
Гийом Постель и Тезео Амброджо дельи Альбонези
Первые полиглоты вышли с разницей всего в один год и охватывали похожий круг языков; более того, их авторы были знакомы и обменивались материалом в процессе подготовки своих книг (ср. Secret 1961, 130–132; Wilkinson 2007, 22). Для Тезео Амброджо дельи Альбонези (1469–1540) «Введение в халдейский, сирийский, армянский и десять других языков» («Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas») (1539) стало последним трудом, итогом многолетних занятий семитологией: сирийскому, арабскому и эфиопскому он учился в Риме – у делегатов восточных церквей, прибывавших к папскому двору; впоследствии он готовил к изданию сирийскую Псалтырь (публикация не состоялась)[86]. Напротив, «Алфавит двенадцати языков, различающихся письменами» («Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum») (1538) Гийома Постеля (1510–1581) стал первым научным опытом молодого автора, вернувшегося из длительной поездки в Тунис, Египет и Стамбул (1534–1536) и привезшего новые знания и новые рукописи[87].
Как следует из заявления Постеля в конце предисловия, «Алфавит» служил своего рода задатком читателю, ожидавшему главного результата его peregrinatio – издания «пунийской» (арабской) грамматики и переводов на латынь арабских авторов[88]. Одновременно Постель работал и над другими крупными сочинениями – книгой о древнееврейском языке и родстве языков[89], космографией и описанием народов Востока. Михаил Скутарий, написавший еще одно предисловие к «Алфавиту», сообщает, что он убедил своего друга опубликовать образцы различных письмен, которые удалось раздобыть в Азии и Африке, полагая, что само их разнообразие привлечет читателей[90] (Postel 1538b, A4a-A4b).
Как бывает с текстами, созданными заодно, «на полях» нескольких трудов, «Алфавит» вышел весьма неоднородным по содержанию и преследовал множество задач. Постель, с одной стороны, пытался удовлетворить интерес читателей к лингвистической экзотике, с другой – рассказывал о судьбах восточного христианства; кроме того, как и в книге «О началах, или О древности еврейского языка», он то и дело устремлял свой взор к истории языков. Но еще более заметной задачей «Алфавита», которая объединяет его с «Введением» Альбонези, было обучение языкам, по крайней мере правилам чтения. Именно этому, как кажется, в первую очередь служили опубликованные Постелем «specimina» и комментарии к ним. Впрочем, рассмотрим этот вопрос по порядку, начиная с frontes librorum.
Вступительные паратексты, открывающие полиглот Альбонези, приписывали ему чудеса лингводидактики: Франциск Сполетан обещал, что под руководством этого краткого пособия (compendiosum opusculum) читатель сможет пересечь Океан и спокойно общаться с людьми, живущими на краю света, – для этого остается только прочитать поскорее всю книгу от корки до корки[91]. Затем эпиграмма некоего Жана д’Арпино убеждала читателя, что книга Альбонези устранит все языковые барьеры у желающих путешествовать по Европе, Азии и Африке: они смогут общаться с местными жителями о чем угодно на совершенно понятном языке (claro sermone)[92]. Наконец, в предисловии, подписанном именем Минервы, утверждалось, что «Введение» откроет пути для международного общения[93]. Если ожидания современников от труда Альбонези действительно были таковы, знакомство с текстом должно было оставить их в некотором разочаровании. Действительно, в книге не было ни словаря, ни разговорника, ни последовательного описания грамматики какого-либо из языков, обозначенных на обороте титульного листа[94]. Содержание «Введения» составляют изображения алфавитов и изложение правил чтения: как можно судить по названиям глав, ни одна из них не выходит тематически за пределы рассказа о «буквах»[95]. Впрочем, Альбонези тут же прибавлял разнообразные комментарии, касавшиеся фонетики, родства языков, символики, нумерологии отдельных букв и т. д. Среди прочего в книге имелся рассказ о жителях Павии (родном городе автора), которые прославились выдающимися способностями или изобретениями; здесь дано изображение духового инструмента (названного «фаготом», но мало напоминающего известный нам фагот), который изобрел дядя автора – Афранио дельи Альбонези (Albonesi 1539, 178a-184a).
«Алфавит» Постеля
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.