Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко Страница 65
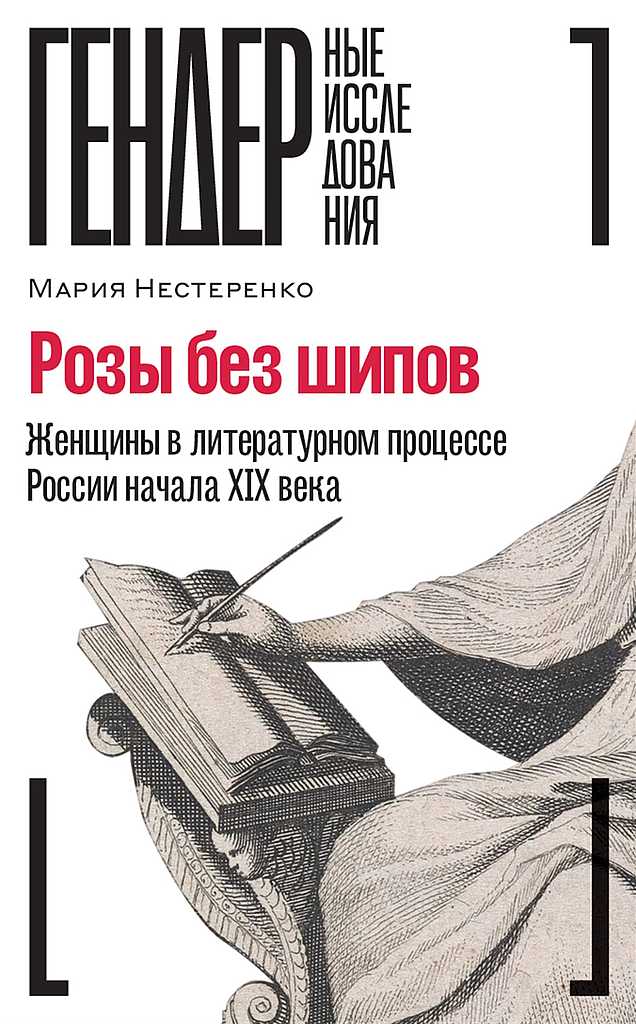
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Мария Нестеренко
- Страниц: 72
- Добавлено: 2022-08-21 23:04:05
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко» бесплатно полную версию:Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время.
Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной. Для этого исследовательница обращается к различным источникам, прежде всего к журнальной периодике, показывая, что при общем позитивном отношении карамзинистов к культурной миссии просвещенных дворянок среди них не было единодушия по этому вопросу.
Мария Нестеренко — филолог, докторант Тартуского университета (PhD), специалистка по творчеству забытых писательниц XIX — начала XX века.
Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко читать онлайн бесплатно
Белинский сводит мир женщины к сфере чувств, «преданной любви и покорного страдания», представляет эту сферу единственной «естественной» средой обитания женщины. Писательница же, по его мнению, идет против природы, но представляет собой не знаменательное исключение (указывающее на косность «законов природы»), а что-то в лучшем случае «жалкое».
Через два года после этой статьи в «Библиотеке для чтения» выйдет повесть Николая Веревкина (писавшего под псевдонимом Рахманный) «Женщина-писательница», по мнению И. Л. Савкиной, «„модельный“ текст, концентрирующий в себе весь набор стереотипов и клише изображения женщины-писательницы»[586]. В этой повести идеи, высказанные критиками ранее и подхваченные Белинским, будут развиты и даже утрированы.
Появление статьи Белинского не было следствием случайного интереса критика. В этот период (1830–1840‐е) происходит переосмысление статуса женщин-литераторов: «именно в это время женщины входят в профессиональную литературную сферу, а в критике возникает понятие „женская литература“»[587]. Николай Билевич, автор одного из первых обзоров русской женской литературы, определяет 1830‐е годы как переломный момент: «Едва ли когда-нибудь столько мыслила и писала русская женщина»[588].
Анна Бунина будет впервые упомянута Белинским в статье «Русская литература в 1841 году», которая мыслилась автором как программная[589]. Белинский называет ее в числе тех литераторов, которых следует предать забвению[590]. Похожим образом она будет представлена в статье «Сочинения Зенеиды Р-вой» (Отечественные записки. 1843. Т. XXXI. № 11). И. Л. Савкина суммировала исследовательские оценки:
Большинство исследователей называют эту статью переломной и оценивают ее в высшей степени позитивно, говоря, что в ней Белинский резко пересматривает собственные патриархатные взгляды и создает традицию нового, серьезного отношения к женской литературе. В противоположность таким взглядам, Катриона Келли, признавая огромную влиятельность этого текста в течение практически всего XIX века, считает, что именно названная статья вводит в обиход те категории так называемой «демократической критики», которые придают писательницам-женщинам маргинальный или второстепенный статус[591].
Однако, как правило, интерпретаторы статьи «Сочинения Зенеиды Р-вой» сосредотачиваются лишь на суждениях критика о «женской литературе» и не учитывают эволюцию взглядов Белинского того времени.
В «Сочинениях Зенеиды Р-вой» рассуждения о женской литературе вписаны в более широкий контекст. А. В. Вдовин отмечал, что в статьях 1843–1848 годов Белинский «продолжал кампанию против романтизма и, соответственно, против своей прежней концепции»[592]. Критика романтической школы присутствует и в статье о женской литературе:
Где теперь все эти «киргизские» и другие «пленники», где всё это множество романтических поэм, длинною вереницею потянувшихся за «Кавказским пленником» Пушкина и «Чернецом» Козлова? Увы! не только эти скороспелые произведения недопеченного романтизма, тогда так восхищавшие нас, — не только они не могут теперь останавливать нашего внимания, но мы не нашли бы в себе достаточной отваги, чтоб перечесть «Чернеца», и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника» мы теперь перелистываем с улыбкою…[593]
Именно порождением такого «недопеченного романтизма» являются в глазах критика, например, сочинения Марии Извековой, которая становится «олицетворением незрелого романтико-сентиментального пансионерского сочинительства»[594]:
Где «Черная женщина» г-на Греча и «Фантастические путешествия» Барона Брамбеуса? Всё там же, где и «Корсар» г. Олина, и «Князь Курбский» г. Бориса Федорова, и романы девицы Марьи Извековой [Белинский: VII, 655].
Критик выстраивает свою историю женской литературы в России. Стремление к подобным построениям в принципе было характерной чертой начала 1840‐х, «поскольку история литературы как самостоятельная дисциплина в ту пору еще не оформилась, критика брала на себя ее функции. <…> Написание истории русской литературы осознавалось критикой <…> как одна из самых насущных задач национального и культурного строительства»[595]. Статья «Сочинения Зенеиды Р-вой», по выражению Катрионы Келли, одновременно «конструировала историю и была конструируема ею»[596]. Белинский делит существование женской литературы на два периода — до Пушкина и после:
С появлением Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщин-писательниц; но известных имен между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, действовавших в начале зарождающейся литературы, пользуются известностью даже и без отношения к их таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтоб получить в ней почетное имя, нужно иметь замечательный талант. Итак, мы помним, в пушкинский период русской литературы, только четыре женские имени: княгини З. А. Волконской, которой Пушкин посвятил своих «Цыган», г-ж Лисицыной, Готовцевой и Тепловой[597].
Деятельность Пушкина Белинский представляет одновременно как некий водораздел и как фактор, способствовавший увеличению количества писательниц. Критик не раскрывает, в чем именно заключалось влияние поэта, но можно предположить, что речь в данном случае идет не только об эстетической составляющей, но и о социальной: «Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!»[598] — писал он в восьмой статье пушкинского цикла («Евгений Онегин»). Деятельность Пушкина — веха в развитии русской литературы, до начала его деятельности она переживала этап формирования, поэт форсировал и закрепил этот процесс, что обусловило появление большего количества литераторов, в том числе и писательниц.
Как бы подчеркивая историчность своей статьи, Белинский не просто перечисляет известных ему литературных деятельниц прошлого, он обращается к каталогу Смирдина и в особую категорию выделяет переводчиц:
В каталоге Смирдина мы встречаем имена следующих женщин, занимавшихся переводами с иностранных языков на русский: Марья Сушкова (перевела «Инки» Мармонтеля в 1778 году), Марья Орлова (1788), Катерина и Анна Волконские (1792), Корсакова (1792), Нилова (1793), Баскакова (1796), Марья Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1801), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтах (1810), Катерина де ла Map (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Анна и Пелагея Вельяшевы-Волынцовы, Вера и Надежда Кусовниковы, Настасья Гагина, Катерина Меньшикова, А. Мухина. Из этого списка видно, что наши дамы рано приняли участие в отечественной литературе[599].
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.