Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко Страница 58
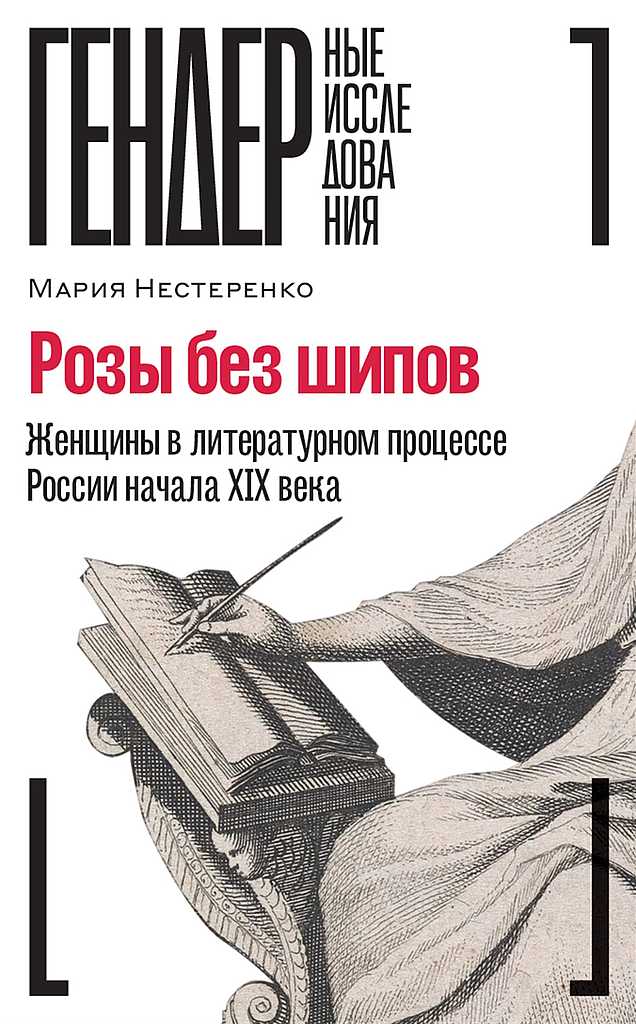
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Мария Нестеренко
- Страниц: 72
- Добавлено: 2022-08-21 23:04:05
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко» бесплатно полную версию:Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время.
Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной. Для этого исследовательница обращается к различным источникам, прежде всего к журнальной периодике, показывая, что при общем позитивном отношении карамзинистов к культурной миссии просвещенных дворянок среди них не было единодушия по этому вопросу.
Мария Нестеренко — филолог, докторант Тартуского университета (PhD), специалистка по творчеству забытых писательниц XIX — начала XX века.
Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века - Мария Нестеренко читать онлайн бесплатно
Бунина упоминалась и в «Певце в Беседе Славенороссов» Батюшкова и Измайлова, однако, как заметил О. А. Проскурин, в варианте, допущенном к распространению, этот фрагмент был устранен:
Куплет обнаружился только в одном из самых ранних списков, сохранившемся в архиве Оленина <…>. Трудно сказать, чем более руководствовались соавторы в своем решении об изъятии этих стихов — видимо, свою роль сыграло не только признание дарования Буниной, но и сочувствие ее трагической судьбе[510].
Первые известные наброски к «Певцу…» датируются 1813 годом, когда о болезни Буниной уже было известно. Впрочем, это не мешало Батюшкову в дальнейшем отзываться о Буниной иронически. В письме Вяземскому от 11 ноября 1815 года он писал:
Если не умру от скуки, то увижусь с тобою. Обнимаю Левушку, которому советую выучить наизусть похвальное слово любви к отечеству Старика, Буниной «Фаэтонта», стихи Олина Анакреонта, Львова «Храм Славы», наконец «Шубы» Шаховского и несколько стихов из «Деборы»: более не вынесет, хотя крепка его натура[511].
Сочинение Буниной фигурирует здесь в одном ряду с сочинениями других беседчиков: Шишкова, Шаховского, Шихматова («Дебора, или Торжество веры»), при этом образуется рифма «Фаэтонт — Анакреонт», с ее помощью усиливается комический эффект. Батюшков использует нетипичную для арзамасцев форму имени древнегреческого поэта — «Анакреонт», более распространенной была форма «Анакреон» (ср.: «…Я вчера обедал у Нелединского (истинный Анакреон, самый острый и умный человек…»[512]; «Счастливый Шолио и Анакреон нашего времени»[513]; «…достойной беседных Анакреонов…»[514]. Противопоставление «Фаэтон — Фаэтонт», «Анакреон — Анакреонт» могло быть использовано в качестве шуточной отсылки к спору по поводу правильности написания «Омер — Омир», а рифмовка «неправильных» форм акцентировала дистанцию между враждующими лагерями.
Более всего на репутацию поэтессы в литературной истории повлияло ее «отпевание» в «Арзамасском обществе безвестных людей». На заседании 25 ноября 1815 года С. С. Уваров произнес похвальное слово очередному «литературному покойнику» — Буниной, выведенной под именем «Бедной певицы». Из текста речи понятно, что главным объектом осмеяния является «Седой дед» (А. С. Шишков), а «Бедная певица» служит лишь предлогом для него. Этот сюжет подробно рассмотрен О. А. Проскуриным в работе «Бедная певица. Литературные подтексты арзамасской речи С. С. Уварова», однако исследователь сосредотачивается на «арзамасских» подтекстах «Речи». Мы же постараемся проанализировать этот эпизод как трансформирующий фактор авторской репутации Буниной. Для этого обратимся к хронике жизни поэтессы, чтобы проследить, какие события происходили в это же время.
Как мы отмечали, к 1815 году загадочная болезнь Буниной начала прогрессировать, и поэтесса решилась ехать в Англию на лечение. Вероятно, первая половина года ушла на подготовку к отъезду. Расходы на путешествие и врачей предстояли большие, а пенсион, получаемый Буниной из казны, был недостаточен. С этого времени у поэтессы начинается заметный творческий спад. Двадцать второго февраля на собрании «Беседы» была прочитана идиллия «Счастливый Меналк», написанная, вероятно, раньше; в апреле она была напечатана в 19‐м выпуске «Чтений в Беседе». Двадцать девятого июля Бунина отправилась морским путем из Кронштадта в Лондон. Ее проводы в Петербурге, по всей видимости, проходили помпезно; в августовских номерах журнала «Сын отечества» появились приветственные стихи, а в сентябре в «Российском музеуме» вышла статья П. И. Шаликова о Буниной. Панегирическое стихотворение Степанова восхваляло бесстрашную борьбу героини с несчастьями:
Унылая дева сироткою в море Средь бурных морей… Вы плачете, други? вам страшен путь в море? Вам грустно по ней?[515]Сама поэтесса, «парнасская дева», уподобляется мифическому певцу:
Под звуками лиры дельфин Амфиона Чрез волны пронес. Корабль быстрокрылый, Парнасскую деву Прияв на хребет[516].Степанов соединил здесь два мифологических сюжета: о певце Амфионе, лира которого заставляла двигаться камни, и о чудесном спасении дельфинами поэта Ариона. Читатели Буниной могли отметить отсылку к сборнику «Неопытная муза», снабженному виньеткой с изображением Ариона и девизом «Лира спасла меня от потопления».
В следующем же номере «Сына отечества» было опубликовано стихотворное подношение Катерины Пучковой «Любезной путешественнице А. П. Буниной при отъезде ея в Англию». Обращаясь к поэтессе «…Парнаса украшенье! / Прости, о Сафо наших дней»[517], автор выражала надежду на беспрепятственное путешествие и скорое возвращение Буниной домой. Отъезд Буниной послужил для Шаликова поводом написать хвалебную статью. Сравнивая поэтессу с Коринной, героиней романа мадам де Сталь, он писал:
Вдохновение сильных страстей, впечатление великих предметов, живость чувства, пылкость воображения, высокость мыслей, парение ума: вот лучезарная печать прекрасного таланта, данного — одной творческим воображением, другой — творческой природой[518].
Шаликов напоминает читателю о статусе первой поэтессы:
Ни одна Стихотворица у нас не писала с таким совершенством, как девица Бунина. Ее нельзя даже сравнить ни с одною из Стихотвориц французских: все они, если не ошибаюсь, ниже в духе и слабее в выражениях[519].
Желание превознести Бунину он объясняет своим патриотизмом и перечисляет достоинства поэзии «русской Сафо»:
…Девица Бунина разнообразна в своем таланте: сверх элегического, дидактического и лирического родов ея Поэзии, немногия басни, написанные сею Стихотворицею, отличаются тонкостью мыслей и привлекательностью рассказа[520].
Отмечая, что прозаические сочинения Буниной значительно уступают ее стихам, Шаликов и тут отдает ей пальму первенства: «…она и в прозе пишет гораздо лучше предшествовавших ей русских
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.