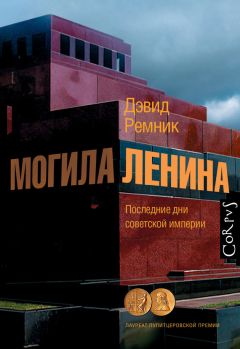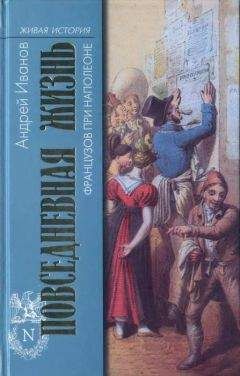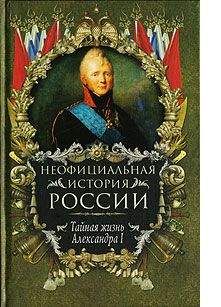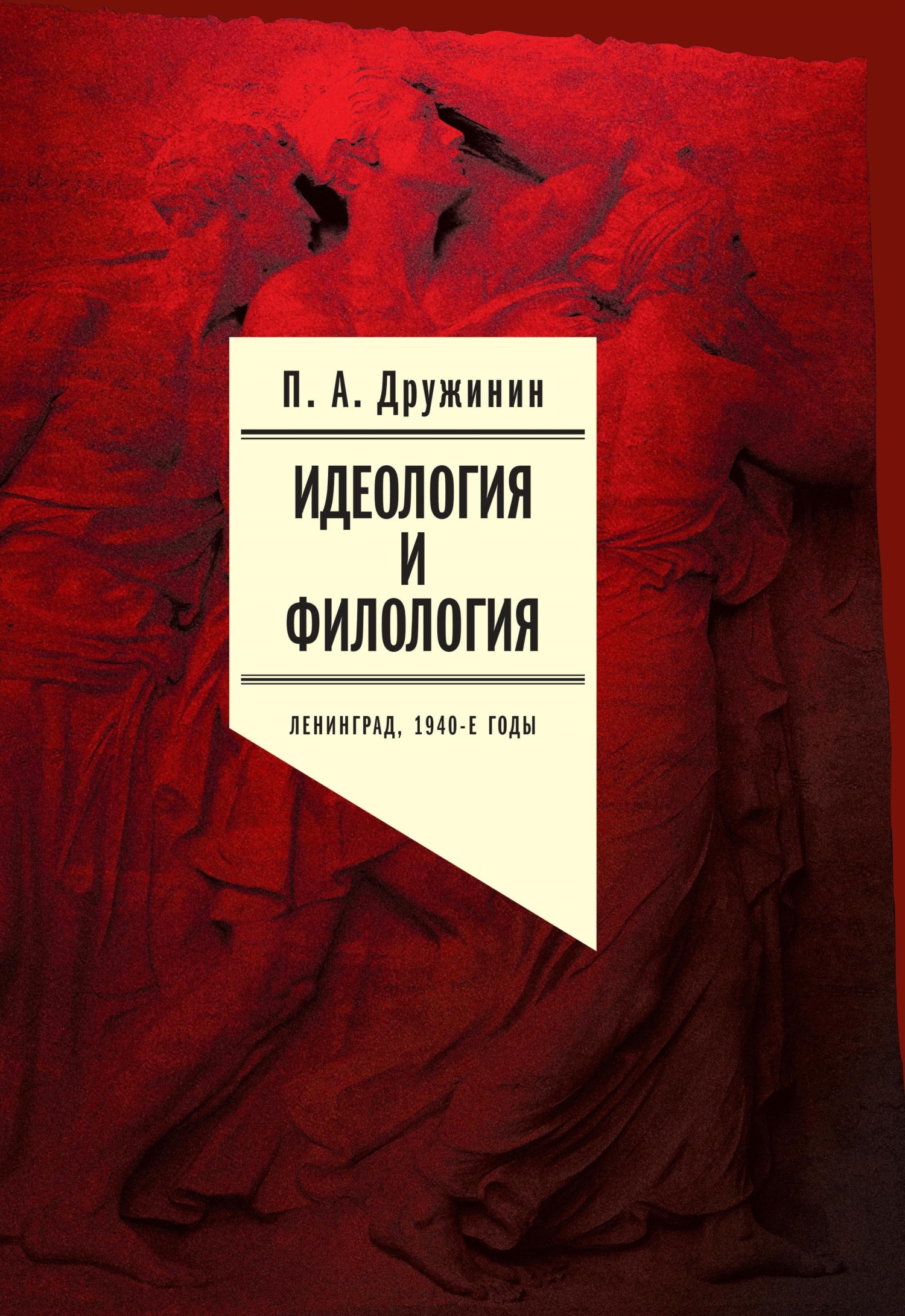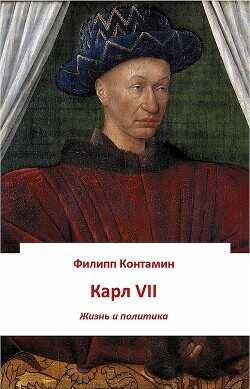Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа Страница 42
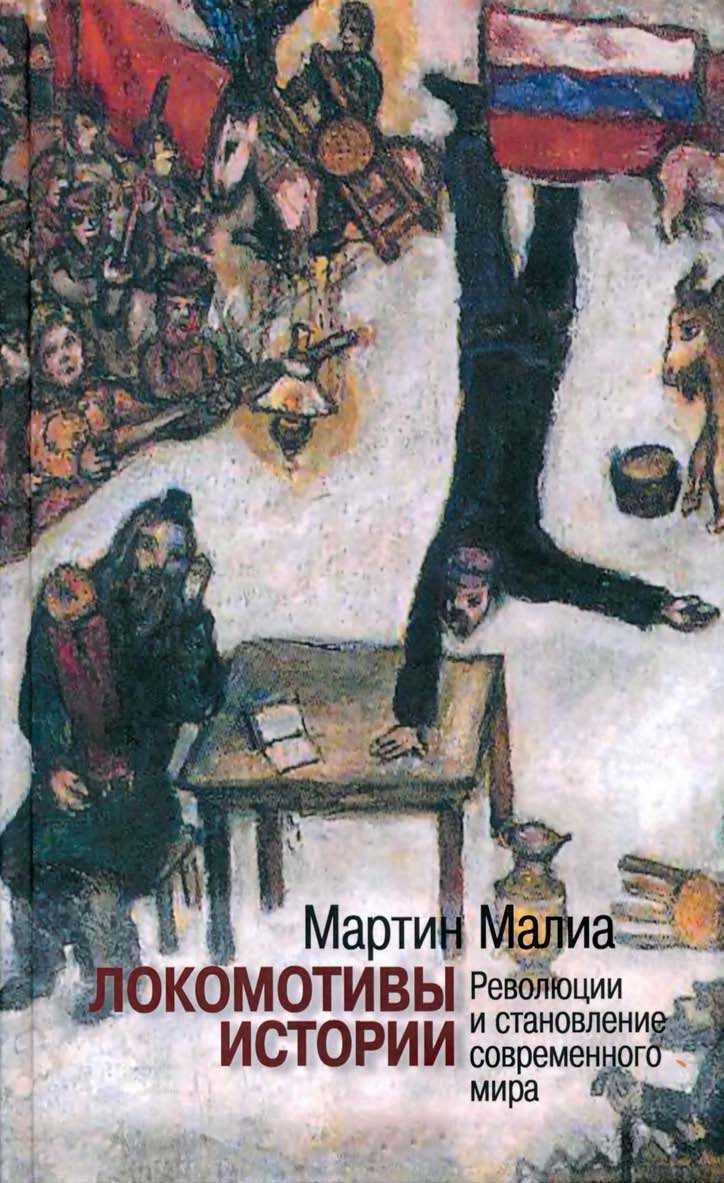
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Мартин Малиа
- Страниц: 128
- Добавлено: 2025-06-27 22:11:00
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа» бесплатно полную версию:÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Американский историк Мартин Малиа исследует европейские религиозные конфликты XV и XVI вв., революционные события в Англии, Франции, Соединённых Штатах и России. В итоге он приходит к выводу, что корни революционных событий XX в. уходят глубоко в историю Европы, а революционная мысль и модель поведения от одной великой революции к другой подвергались процессу радикализации. Малиа предлагает оригинальный взгляд на феномен революции и даёт интересную оценку влиянию этого феномена, рассматривая его как движущую силу исторического процесса.
Книга рассчитана на специалистов-историков и широкий круг читателей.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читать онлайн бесплатно
Ужас массовой резни наконец стимулировал возникновение третьей силы в обществе — «политиков», названных так потому, что они ставили интересы государства и гражданского мира выше заботы о чистоте религии. Выдающийся пример человека подобного склада — Монтень, который, правда, не вёл активной политической деятельности. Именно «политиком» в душе был Генрих Наваррский, по политическим соображениям сначала исповедовавший протестантство, а затем перешедший в католичество. Крупным теоретиком этой новой силы был Жан Боден. В шести его «Книгах о республике», изданных в 1576 г., определялась абсолютная концепция государственной власти, которая в контексте монархии означала королевский абсолютизм[118]. Поскольку в то время никто не мог сохранять религиозный нейтралитет, на практике «политики» обычно поддерживали неформальный союз с более слабой религиозной партией — гугенотами. Даже после Варфоломеевской ночи гугеноты пользовались легальными правами на подконтрольных им территориях.
Однако с 1572 г. им пришлось занять оборонительную позицию, в результате чего появилось огромное количество литературы, посвящённой гугенотскому сопротивлению. Современники — поборники королевского суверенитета прозвали её авторов «монархомахами» («борцами с монархией»). В 1573 г. вышла «Франкогаллия» Франсуа Отмана, доказывавшего, что со времён франкского завоевания монархия во Франции была конституционной, опираясь на народный суверенитет и народное согласие. Сходной позиции придерживались защитники «старинной конституции» в Англии XVII в. Кстати, гугеноты ещё с 1567 г. требовали нового созыва Генеральных штатов. В 1574 г. сам Теодор Беза пополнил такого рода литературу трактатом «Право магистратов», который предварял появление в 1579 г. анонимной «Защиты против тиранов» («Vindiciae contra tyrannos»), написанной ещё более резко. Словно в ответ на современную концепцию верховной власти, изложенную Боденом, оба гугенотских памфлета представляют первое более или менее современное обоснование права на революционное сопротивление. Конечно, и раньше встречались схоластические апологии тираноубийства, но литература монархомахов пошла дальше, формулируя всесторонне развитую политическую теорию сопротивления. Правда, сопротивление она пропагандировала отнюдь не демократическое, признавая его законность только для «нижестоящих магистратов» в рамках существующего устройства, то есть принцев крови, Генеральных штатов, судебных парламентов либо дворянства в целом, когда не заседают Генеральные штаты. Это литературное наследие сыграет важнейшую роль в нидерландском восстании, а также в Англии в период от гражданской войны 1640-х гг. до «Славной революции» 1688 г.[119]
В 1574 г. после преждевременной кончины Карла IX на престол взошёл его брат — Генрих III. Поскольку со временем выяснилось, что у нового короля не будет детей, наследовать ему должен был младший брат — герцог Анжуйский. Однако смерть герцога в 1584 г. сделала очередным законным наследником протестанта Генриха Наваррского. Разумеется, эта биологическая катастрофа обострила религиозный кризис и, собственно, привела к его кульминации в виде самой затяжной и последней из религиозных войн — «войне трёх Генрихов». Третий Генрих — сын герцога Гиза, убитого ещё в первую религиозную войну; во время Варфоломеевской ночи он самолично разделался с адмиралом Колиньи.
С момента созыва первых Генеральных штатов при Генрихе III в 1576 г. Гиз возглавлял Католическую лигу (или Священный союз), в которую входили представители дворянства, поклявшиеся защищать церковь. Лига поддерживала монарха в обмен на признание последним прав штатов и провинций. Смерть герцога Анжуйского дала её деятельности новый толчок, и на деле Католическая лига стала даже более революционной силой, нежели гугеноты ранее. Она заключила тайный союз с Испанией, получая финансирование от самого Филиппа II: последний тогда готовился к нападению на Англию, а его полководец в Нидерландах, герцог Пармский, достиг вершины успеха в подавлении мятежа кальвинистов. Публицисты лиги усердно трудились, по сути, радикализируя гугенотское сопротивление и аргументацию монархомахов.
В Париже независимо от Гиза появилось видоизменённое ответвление лиги под руководством ряда приходских священников, королевских чиновников и состоятельных буржуа. Оно представляло собой конспиративную организацию со своим управляющим советом и плебейскими подразделениями во всех 16 округах Парижа. В недрах этих низовых секций возникло подлинно радикальное социальное движение, которое проявляло себя не столько в прямых требованиях перемен, сколько в ожесточённой ненависти к надменным, грызущимся между собой дворянам и в недовольстве судебным парламентом. Примеру новой городской лиги последовали в других северных и восточных городах королевства. Сеть «лигистских» городов вместе со Священным союзом дворянства под предводительством Гиза образовала политико-религиозную партию и демонстрировала образец «демократического централизма», который во всех основных организационных аспектах являлся зеркальным отражением модели, созданной их противниками-гугенотами. Единственное отличие, конечно, составляла идеология в форме религии. Но это отличие имело ключевое значение, ибо оно одно наполняло организационные формы политическим смыслом и психологическим содержанием.
В мае 1588 г. Гиз совершил торжественный въезд в столицу по приглашению Совета шестнадцати — управляющего органа Парижской лиги. Когда король попытался применить против него силу, горожане взбунтовались в «День баррикад», 9 мая. Король был вынужден бежать из города, а Совет шестнадцати превратился в параллельное городское правительство, конкурирующее с законным муниципалитетом. Всё это, конечно, очень похоже на парижские события 1789 г. и вообще сильно напоминает организацию якобинцев в Париже и общенациональную сеть якобинских клубов в 1793 г. Подобно якобинцам, Совет шестнадцати терзался страхом перед изменой и вёл списки «подозрительных», которых при необходимости надлежало устранить. С кафедр приходских церквей раздавались страстные, даже фанатичные призывы к борьбе с тиранией Генриха III и бдительному выслеживанию его сторонников в стенах города. Главное, но опять-таки фундаментальное различие между двумя примерами заключается в идеологии. В 1588 г. «идеологией» служило католичество тридентского толка, означавшее реформированную версию традиционного церковного устройства; в 1793 г. — руссоистский идеал «республики добродетели», который подразумевал дерзкий прорыв к светлому светскому будущему.
После «Дня баррикад» у короля не осталось иного выбора, кроме союза с Генрихом Наваррским — предводителем вооружённых сил гугенотов, а также официального признания кузена-еретика наследником французского престола. (В иных обстоятельствах аналогичный выбор сделает Карл II, король Англии, защищая право на престолонаследие своего брата-католика, герцога Йоркского.) Стремясь вновь обрести контроль над ситуацией, король, вдохновлённый летним провалом выступления Филиппа II против Англии, созвал Генеральные штаты в нейтральном городе Блуа. Католическая лига без особого труда добилась избрания в них большинства своих сторонников. Тогда Генрих III ухватился за иллюзорное решение в виде быстрой хирургической операции. В королевском замке, где заседали штаты, люди короля убили Гиза и его брата, кардинала.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.