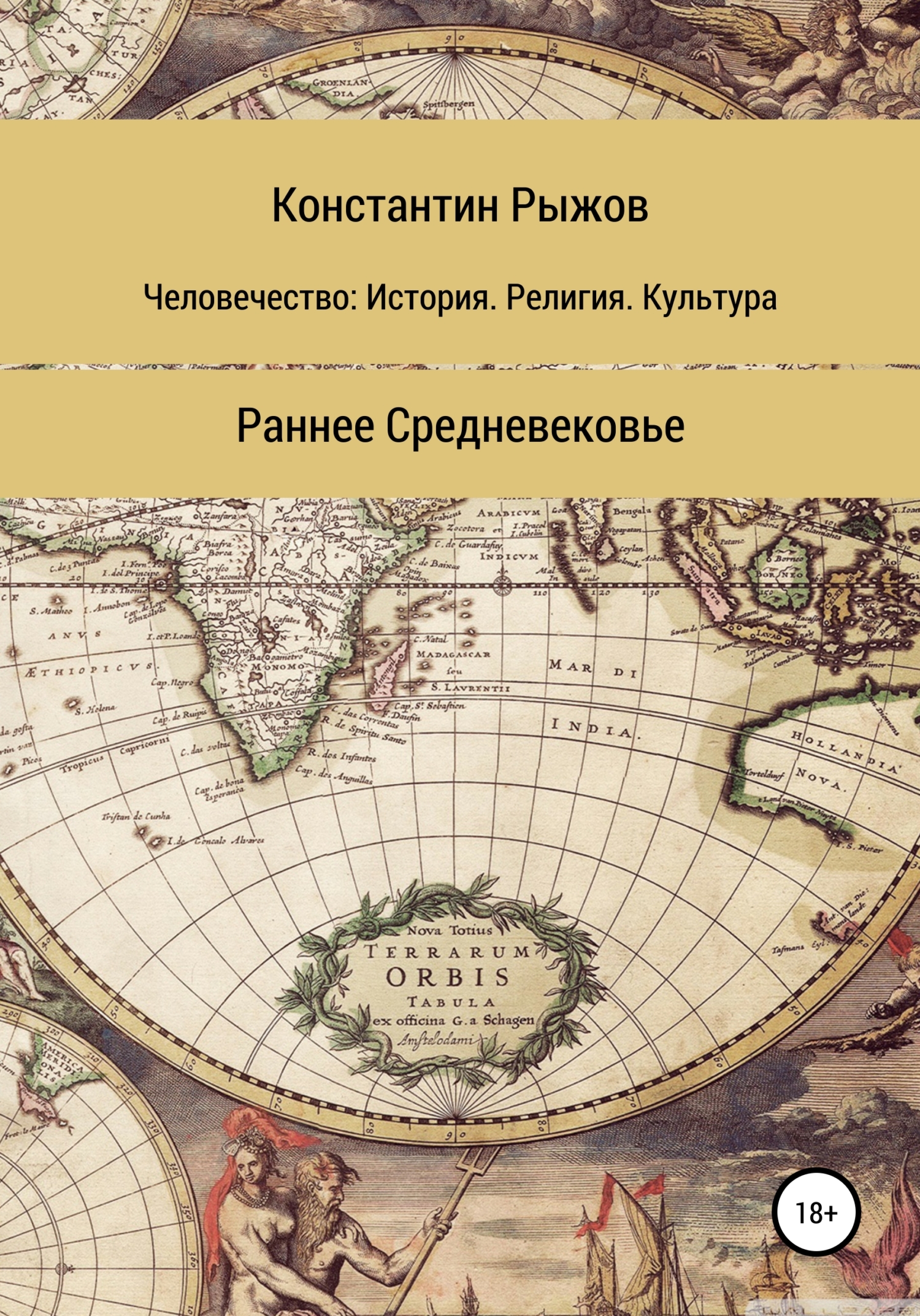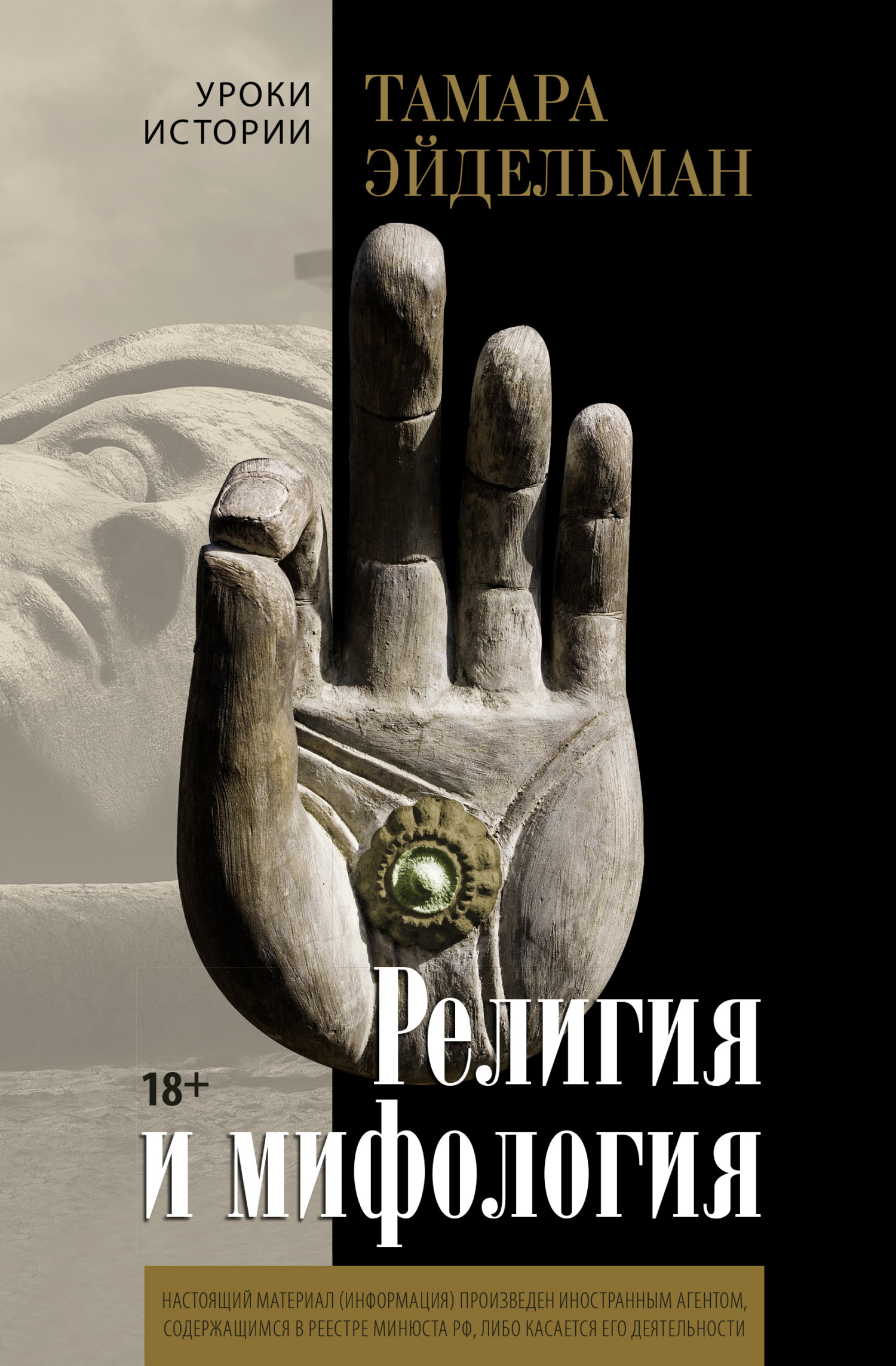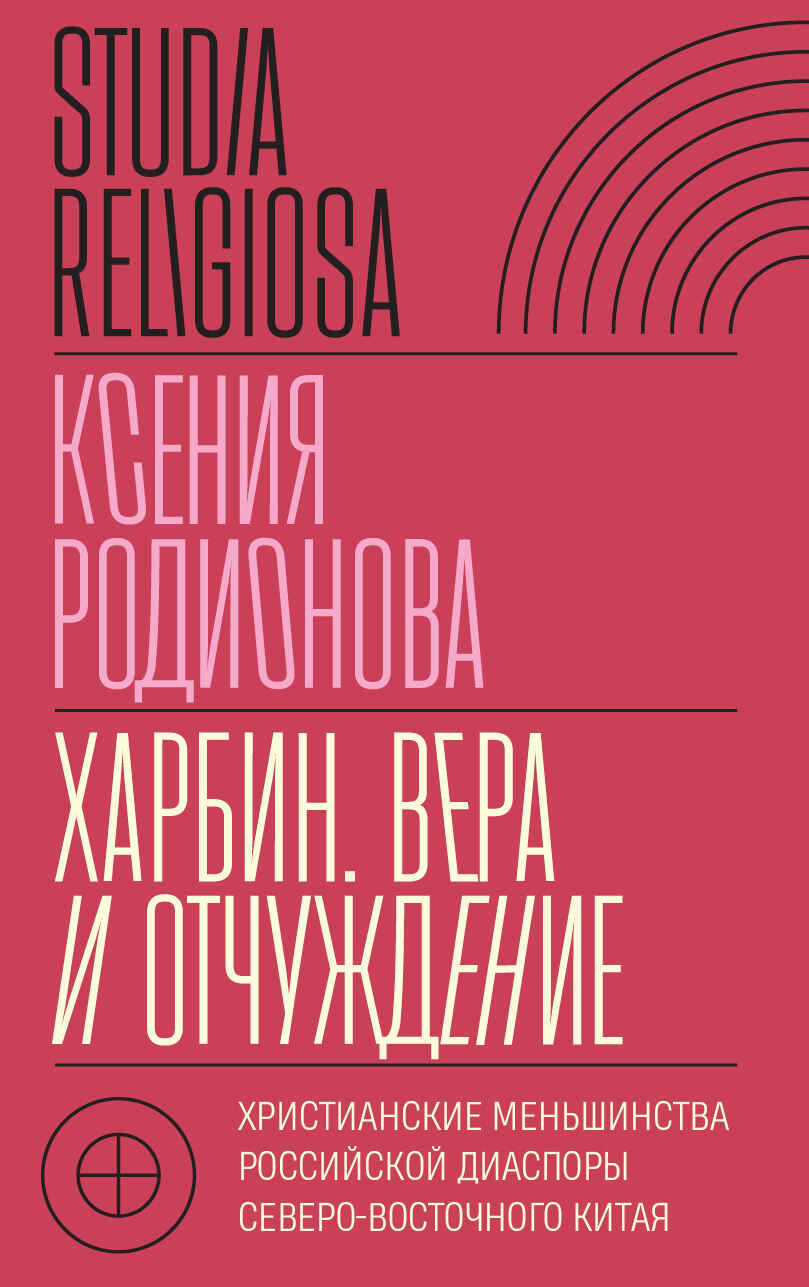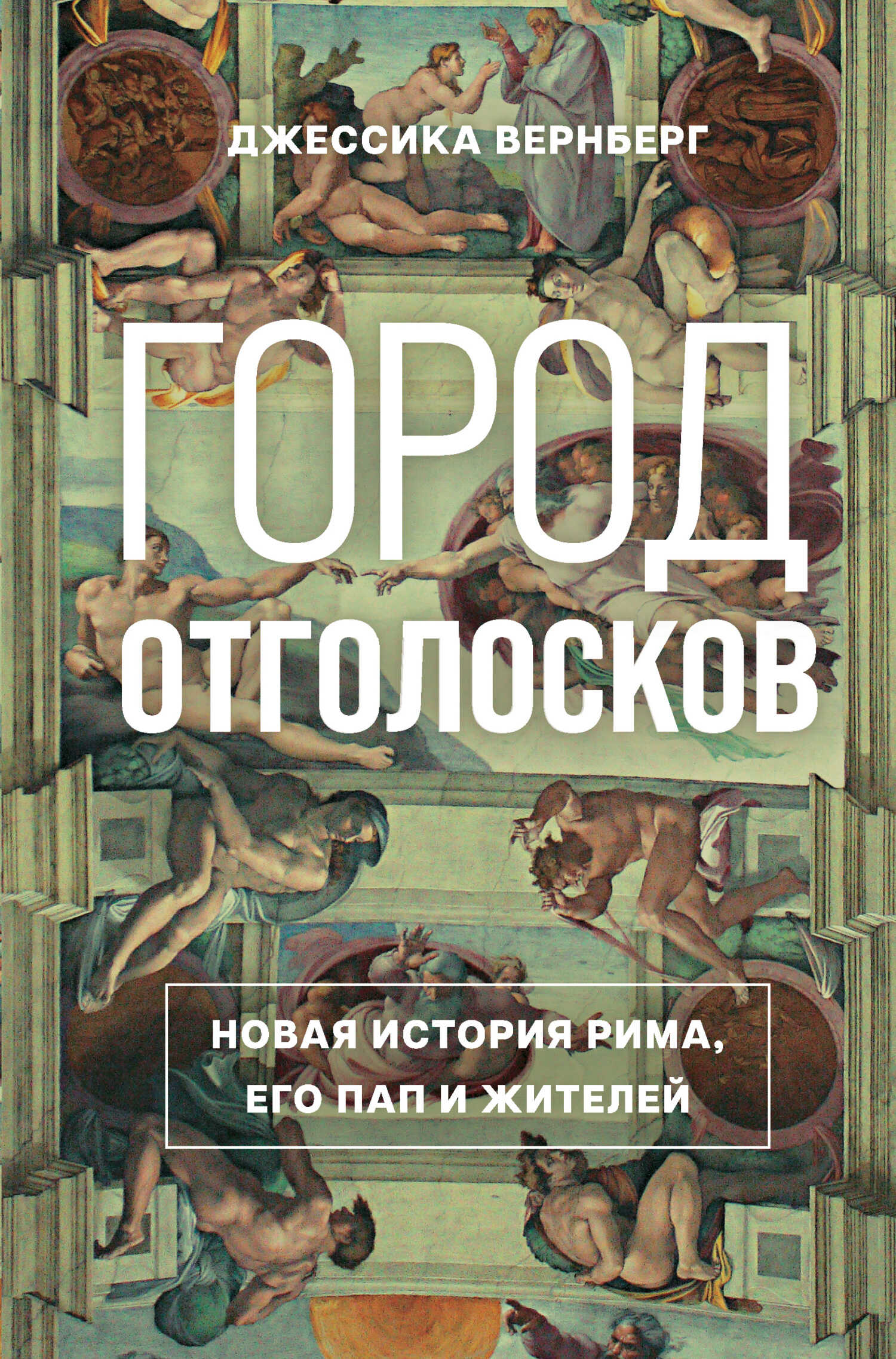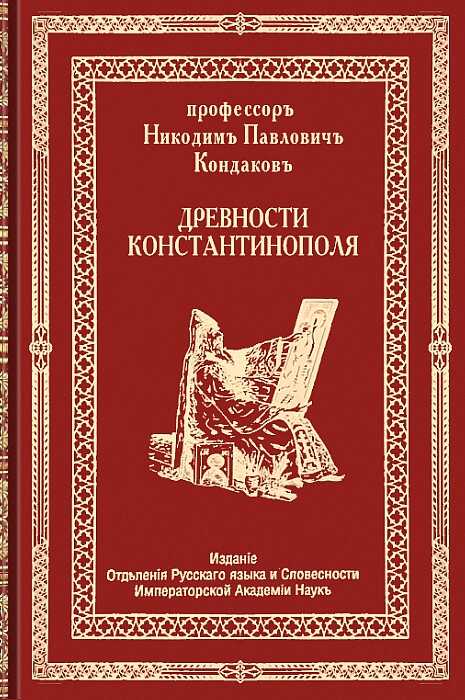Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко Страница 41
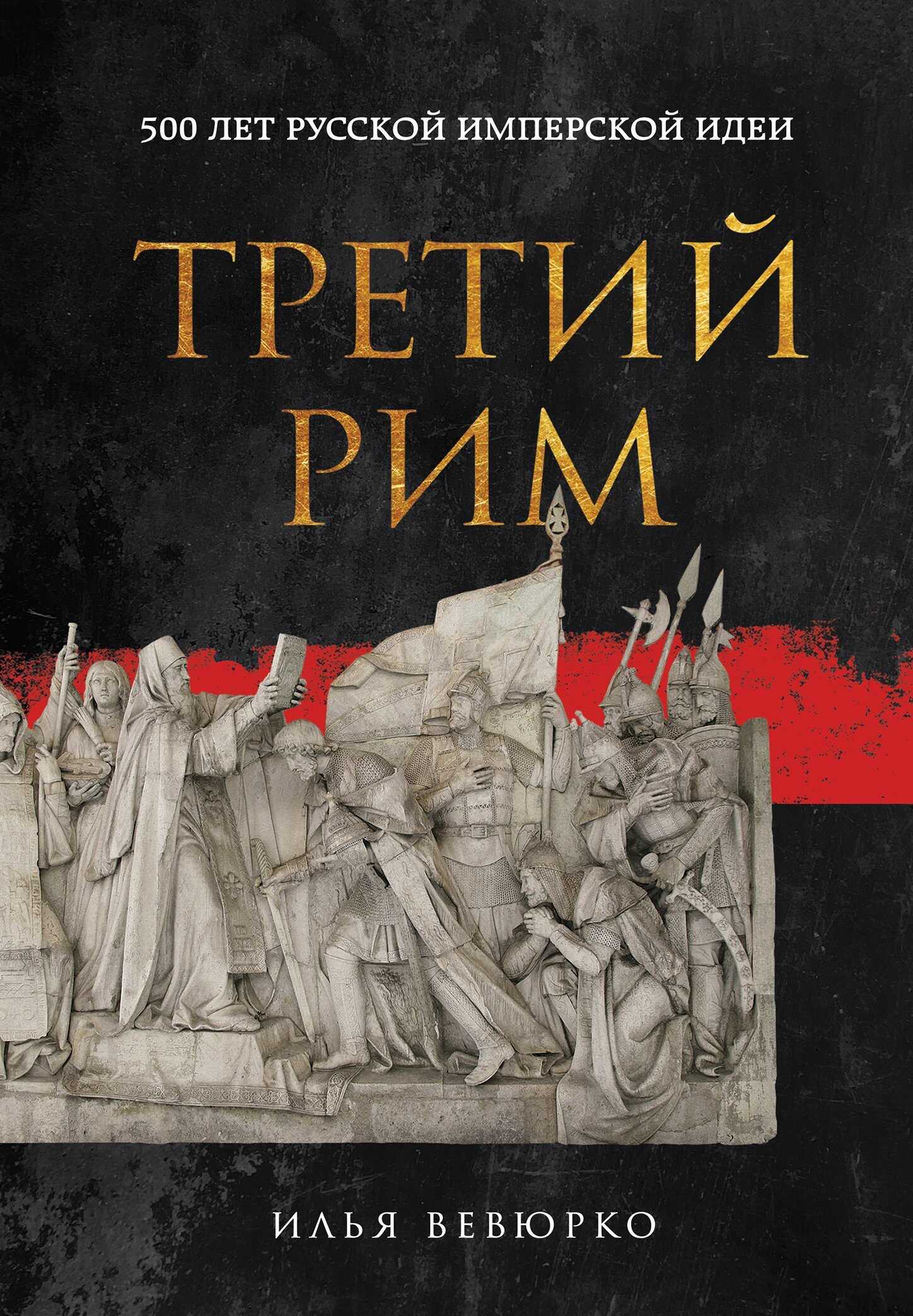
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Илья Сергеевич Вевюрко
- Страниц: 64
- Добавлено: 2025-05-05 23:20:56
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко» бесплатно полную версию:Книга именитого религиоведа и философа Ильи Вевюрко – взвешенное рассуждение о русском пути и церкви, о древнерусском рецепте величия и праве Руси претендовать на римское имперское наследие.
О том, как известный постулат старца Филофея «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать», касается нас сегодняшних.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко читать онлайн бесплатно
Но и в таких обращениях облик города оставался двусмысленным, и эта двусмысленность потом еще долгое время, вплоть до начала ХХ века, будет связываться с основателем, воплотившим ее в самом себе – «кумиром на бронзовом коне» – Медным всадником.
На пламенном коне, как некий бог, летит:
Объемлют взоры все, и длань повелевает;
Вражды, коварства змей растоптан, умирает;
Бездушная скала приемлет жизнь и вид,
И Росс бы совершен был новых дней в начале,
Но смерть рекла Петру: «Стой! ты не бог, —
не дале!»
(А. Ф. Мерзляков, 1815)
Ты граду дал свое названье,
Лишь о тебе гласит оно,
И – добровольное сознанье —
На чуждом языке дано.
Настало время зла и горя,
И с чужестранною толпой
Твой град, пирующий у моря,
Стал Руси тяжкою бедой.
(К. С. Аксаков, 1845)
Мы цитируем все московских авторов, но «важно отметить, что сознание “искусственности” является чертой самооценки петербургской культуры и лишь потом переходит за ее пределы, становясь достоянием чуждых ей концепций. С этим связаны такие черты, постоянно подчеркиваемые в петербургской “картине мира”, как призрачность и театральность» [103]. Суровый приговор Петербургу был вынесен в стихотворении «Вавилон» Евгения Лукича Милькеева (1842). В форме хвалы оно фактически отождествляет российскую столицу, не называя ее по имени, с библейским символом всемирного разврата и богоборчества. Вспомним, что апостол Петр образно именовал «Вавилоном» языческий Рим; так и Петербург для Милькеева, уроженца Тобольска, есть город надменного, бездушного идолопоклонства:
Ты не помнишь, что на свете
Есть другие города —
Братья в скудости, не в цвете,
С горем дружные всегда.
Пусть они, бедами сыты,
Стонут в муках роковых, —
Ты, счастливец именитый,
Отвергаешь вопли их;
Кровных чествуя презреньем,
Знать не хочешь нищеты,
И слепым столпотвореньем
Занял руки и мечты.
И Творец тебе не страшен…
Пусть потоп наводит Он,
Ты взойдешь на выси башен,
Занесенных в небосклон…
Противопоставление «холодного» Петербурга и «теплой» Москвы в романе Толстого «Война и мир» находится в той же славянофильской парадигме, что и процитированное выше стихотворение «Петру» Константина Сергеевича Аксакова [104]. Образ «прямоугольной» и «формальной», а потому фантастической, несуществующей столицы, предварительно пройдя через Гоголя, Толстого и Достоевского, достигнет апофеоза в романе Андрея Белого «Петербург» (1913). Хорошо известно, что чиновник, олицетворяющий дух города, списан Белым с литературного портрета знаменитого монархиста Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, искаженного Толстым в персонаже Каренина [105]. Тем более примечательно, что на самом деле Победоносцев, коренной москвич, никогда не писал о Петербурге так, как писал о Москве в 1886 году, чествуя память славянофила Ивана Сергеевича Аксакова:
В настоящем поколении грустное чувство объемлет душу москвича, когда он въезжает в родной свой город, в древний Сион свой, и между священными памятниками истории видит повсюду обширное кладбище – всюду следы людей, богатевших духовною силой, и так мало следов живой силы, вновь расцветающей. Приходится все вспоминать дорогие имена с молитвою. «Мать наша Сион, – скажет человек, – вот такой-то и такой-то родился в нем» [106].
Петербург оставался долго в глазах русской публики заложником своей «блестящей», «ослепительной», «мраморной красы». Но изнутри, в убогости простых улиц, на которые Пушкин и Гоголь обратили внимание в связи с «маленьким человеком», он был таким же русским православным городом, как и остальные, со своей верующей толпой, потянувшейся к могиле блаженной Ксении после ее кончины. Сам факт явления юродивой в Петербурге замечателен: город, то ли наиболее, то ли единственно «европейский» в России, то ли «окно, через которое Россия смотрит в Европу», оказался восприимчив к роду святости, несравненно более почитавшемуся в допетровское время, чем позднее. Никто из юродивых XVIII–XIX веков не получил такого широкого признания, ни о ком больше после смерти не говорили во всей России: «безумием своим безумие мира обличила еси». Ксения, чье имя значит «странница», стала святым Андреем Юродивым этого северного русского Константинополя, его хранительницей и душой. Она как бы согрела Петербург в сердцах верующих людей своим дыханием. С тем же правом это можно сказать и о святом Иоанне Кронштадтском, который нередко бывал и служил в столице. А вскоре после смены эпох произошло страшное событие, заставившее всю Россию сочувствовать городу на Неве и навсегда ее с ним сроднившее, знаменитым словам «Петербургу быть пусту» придавшее черты одновременно пророчества и кощунства – Ленинградская блокада.
Дворянская империя
История российской модернизации XVIII–XIX веков есть история постоянно нараставшего взаимоотчуждения народа и власти. Речь не идет о вековой борьбе угнетенных против угнетателей, которую советские учебники рисовали через череду восстаний, полностью игнорируя положительный образ монархии в народном сознании. Еще о Петре Великом народ слагал былины, как о прежних своих государях и боярах, а насильственное пострижение царицы Евдокии оплакал в жалостных песнях. Монархические настроения в народе существовали действительно, даже последний царь Николай II успел почувствовать их, особенно бывая в таких монархически настроенных городах, каким был, например, Киев. Но наряду с этими настроениями, постепенно их затмевая и вытесняя, нарастали непоминание, неверие и озлобление против верховной власти, которая во многих случаях казалась не «общим благом для всех подданных», а сильной и жестокой защитницей одних против других, причем противопоставление выстраивалось не по теории, выраженной, пусть и не выдержанной, Грозным – «ко благим убо милость и кротость, ко злому же ярость и мучение» – но по банальному сословному признаку. «Может прийти минута, – писал К. П. Победоносцев в письме к наследнику, своему воспитаннику, в 1879 году, – когда народ в отчаянии, не узнавая правительства, в душе от него отречется и поколеблется признать своею ту власть, которая, вопреки Писанию, без ума меч носит. Это будет минута ужасная, и не дай Бог нам дожить до нее».
В деятельности любого правительства крайне трудно установить баланс между амбицией, чувством долга, необходимостью, расчетом (верным или ошибочным), предусмотрительностью, фаворитизмом, непотизмом и прочими мотивами. Личная мотивация может быть самой разнообразной, от альтруизма и служения долгу до знаменитого принципа «после нас хоть потоп», а данных, составляющих контекст, настолько много, что историки, в общем, скорее выводят медиану из всего, что оказывается в их поле зрения, нежели устанавливают действительное многообразие причин. Если
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.