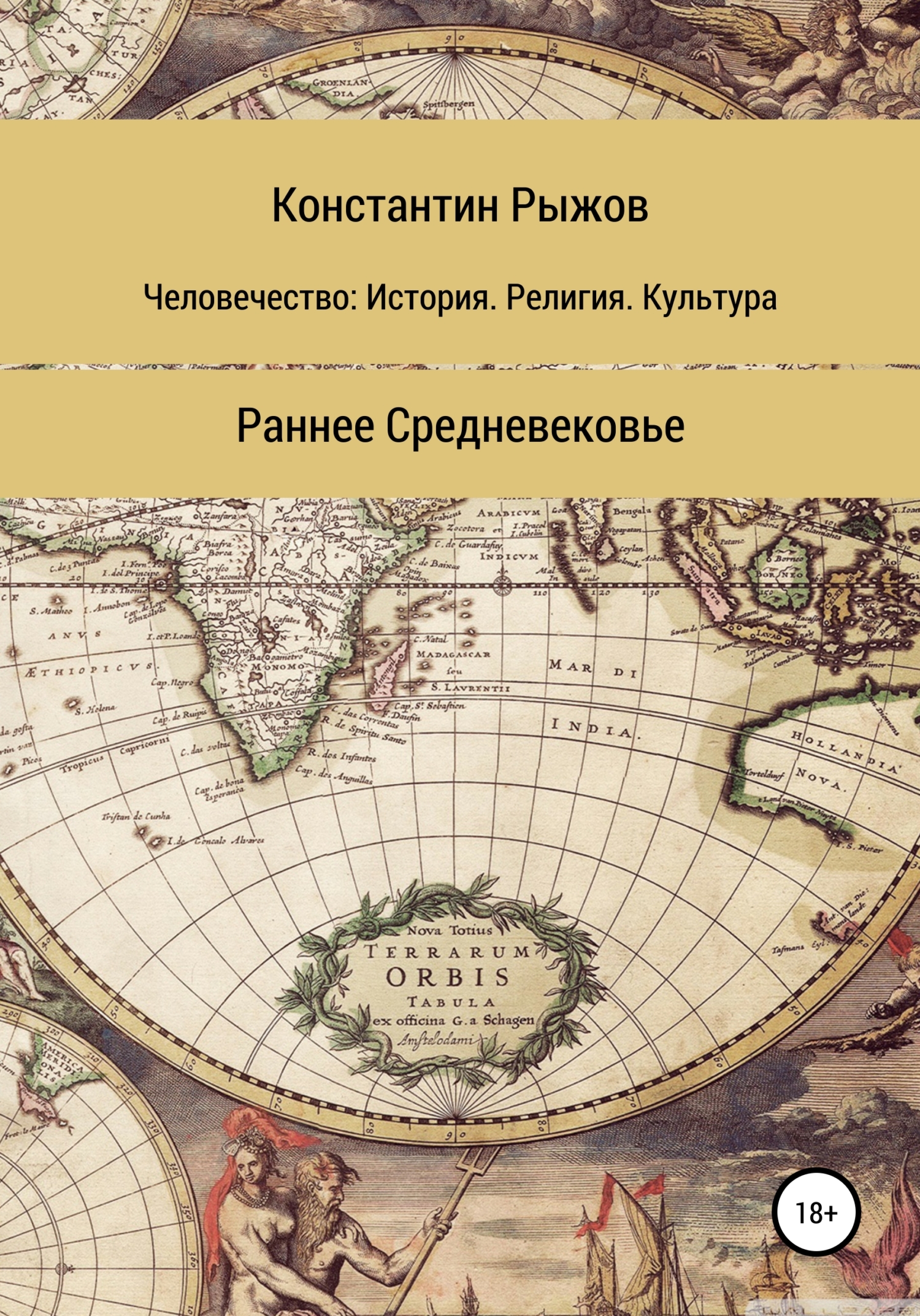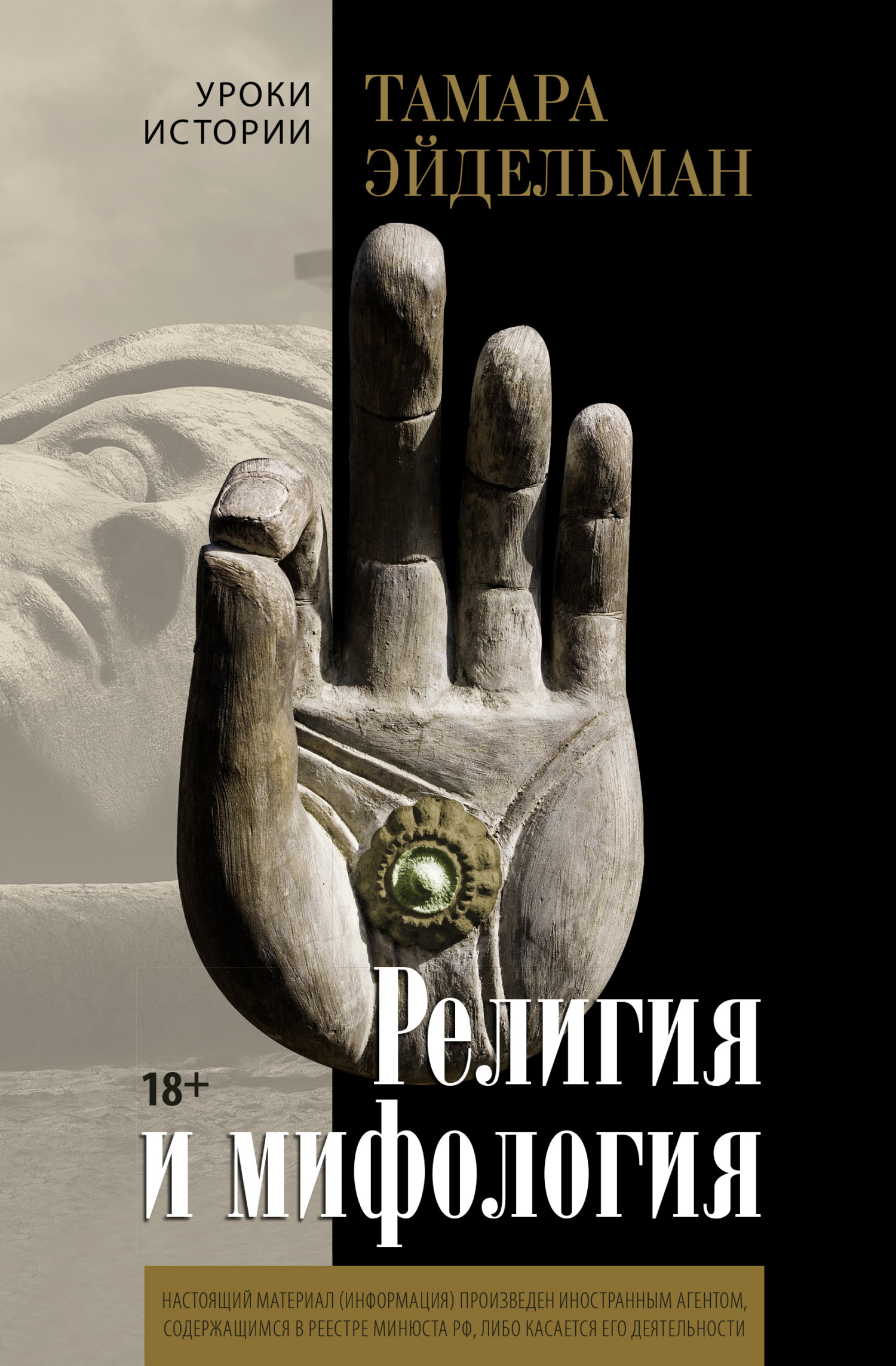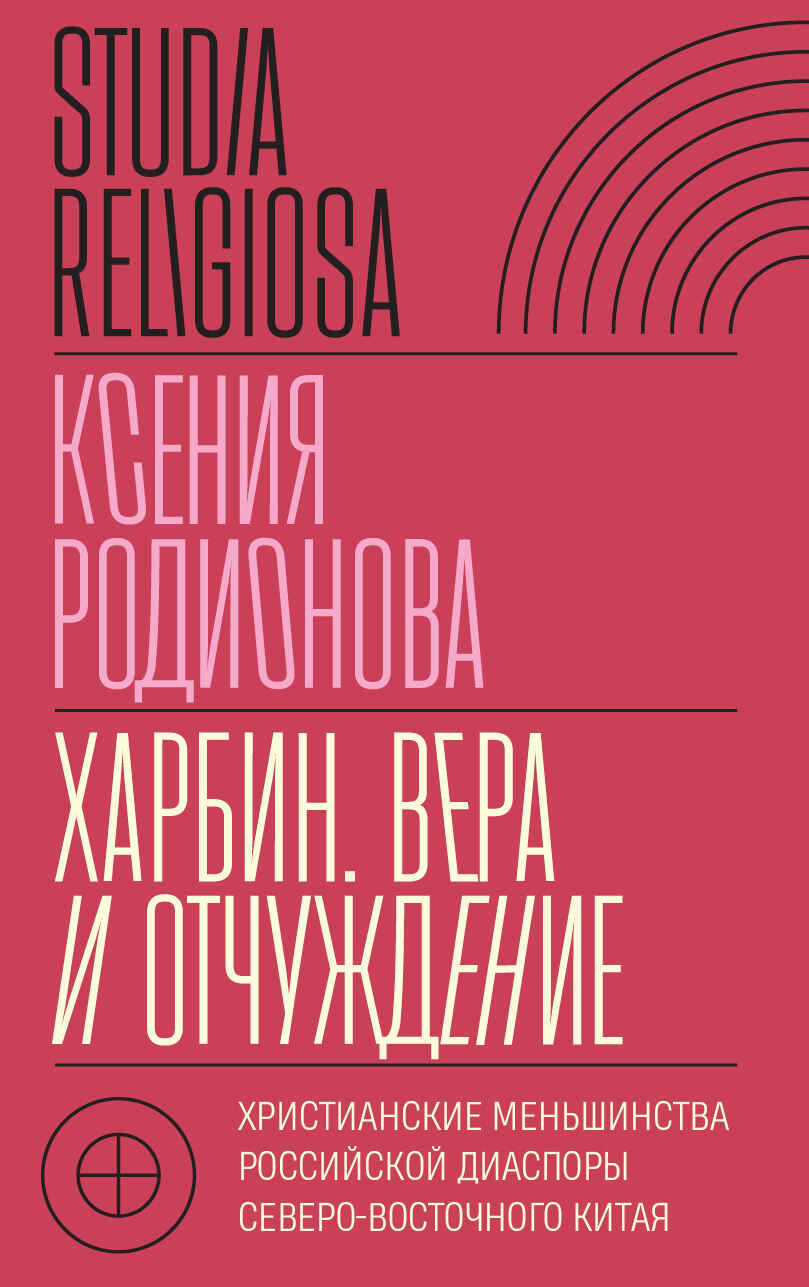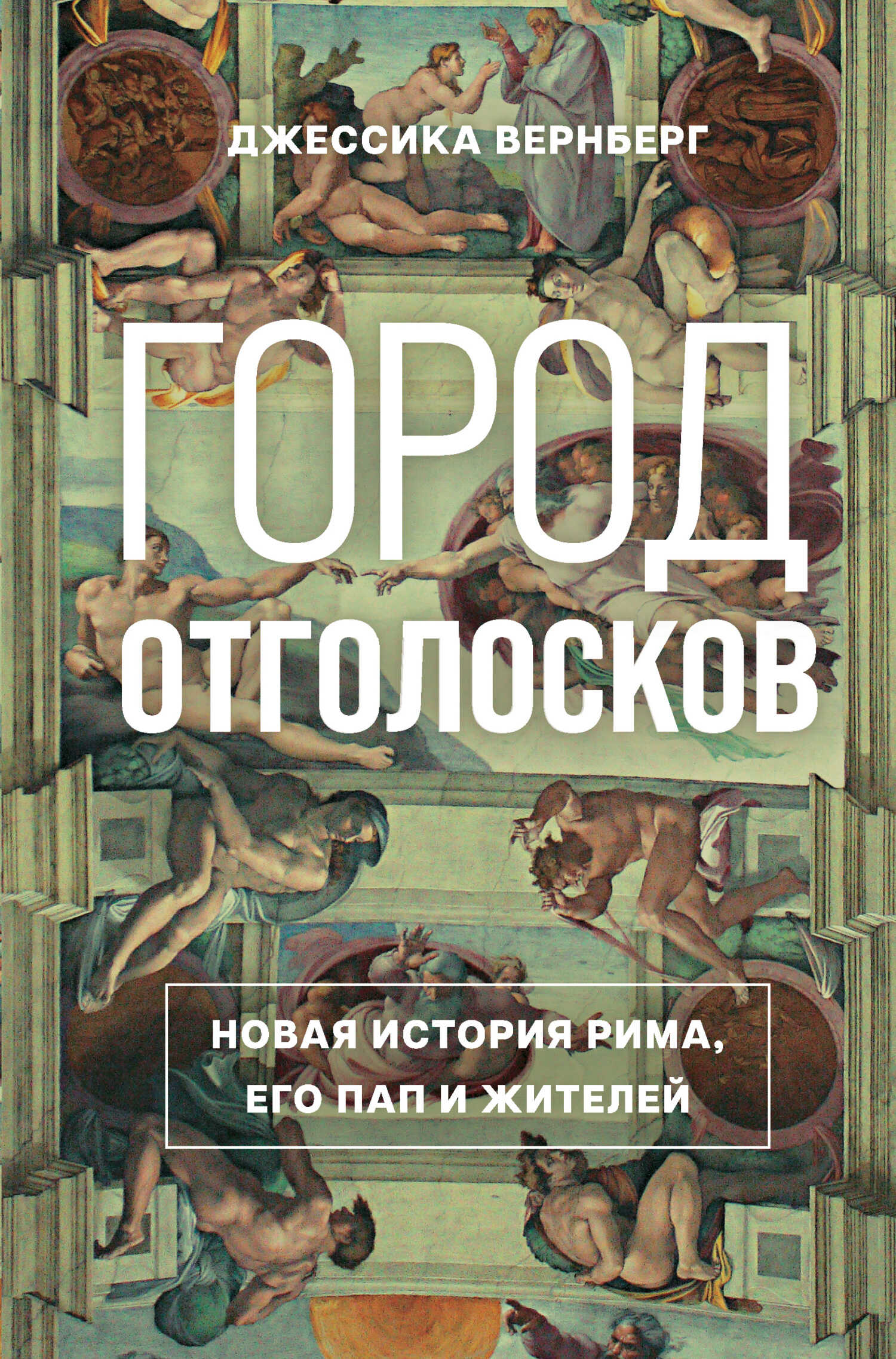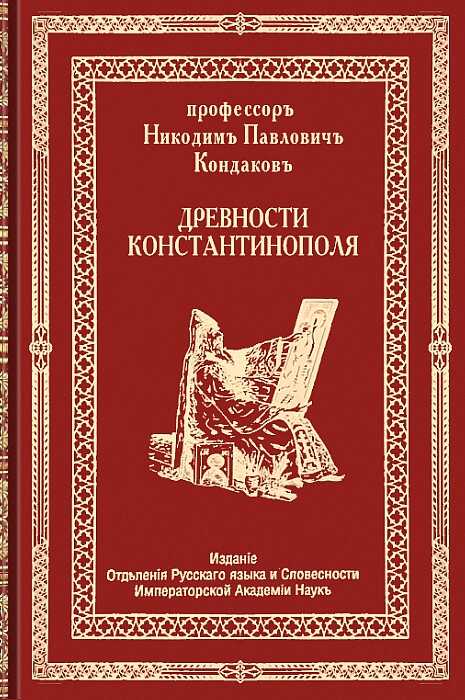Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко Страница 37
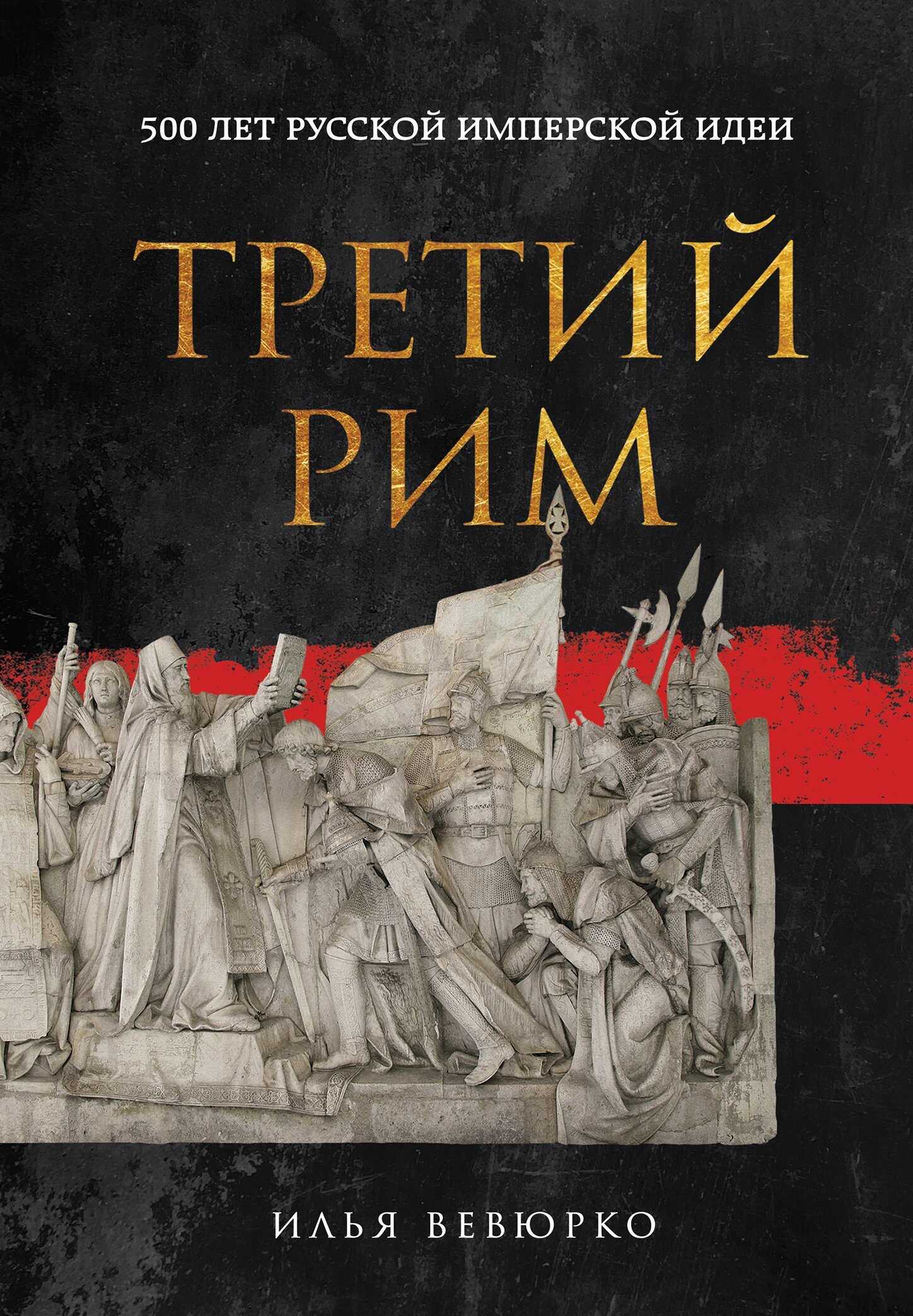
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Илья Сергеевич Вевюрко
- Страниц: 64
- Добавлено: 2025-05-05 23:20:56
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко» бесплатно полную версию:Книга именитого религиоведа и философа Ильи Вевюрко – взвешенное рассуждение о русском пути и церкви, о древнерусском рецепте величия и праве Руси претендовать на римское имперское наследие.
О том, как известный постулат старца Филофея «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать», касается нас сегодняшних.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко читать онлайн бесплатно
Из культурных реформ Петра обратим внимание на три наиболее курьезные.
Бритье бород и ношение париков имело целью, скорее всего, все ту же унификацию, в которой регулярное государство Нового времени видело залог своей механистической слаженности. Недаром император Павел, мыслящий себя продолжателем Петра последний рыцарь абсолютизма, будет отличаться такой приверженностью к прусской косичке. При этом большинство даже городского населения культурной ломке подвергнуто не было. «Мужик» оставался «мужиком», но теперь он стал носителем народной культуры быта, которую знать, владевшая этим мужиком и неуклонно укреплявшая свои права над ним, быстро утрачивала. Это создало кричащую эстетическую неоднородность общества в одежде, архитектуре, привычках, что не могло способствовать национальному единству – другой ценности Нового времени, к осознанию которой пришли значительно позже. Если реформа Петра и не была, как думали некоторые, прямой причиной революции 1917 года, то, во всяком случае, она заложила основы отчуждения, которое проявило себя в ее ожесточенности.
Курение табака – до разговоров о его вреде для здоровья невинная забава, вспомним хотя бы симпатичнейший образ капитана Тушина в «Войне и мире», с его неизменной «закушенной набок трубочкой». Для Петра это новшество тоже дань рационализму: лучше развлечься, чем постоянно быть в напряжении. Почему же исконная Русь так противилась курению, называя его «каждением бесам»? Дело не только в суеверии, которое по ассоциации курения с каждением (сами слова были синонимичны) сразу задавалось вопросом: «А этот кому кадит, и так зловонно?» Дело еще в том, что на Руси бесцельное доставление себе удовольствия как таковое считалось греховным. Семнадцатый век подозрительно смотрел даже на всякую музыку, кроме церковной, еще не осознавая, что высокая классика может быть сродни богословию. Правда, на Руси разводили сады, украшали дома и одежду, румянились женщины: но все это или принималось без рассуждения как дань традиции (а «ревнители» пытались некоторые из этих обычаев отменить), или оправдывалось как объективное благо. Царская и боярская одежда, например, с ее не столько приятной, сколько утомительной роскошью, была своего рода сигнальной системой, осведомлявшей о заслугах человека и его рода, о полученных им царских милостях и т. д. В случае сада или дома, особенно храма, красота, подобная райской, для всех служила напоминанием о первозданной невинности человека и совершенстве Божественного замысла. Но трубка с куревом, услаждающая лично того, кто курит, заменяя ему созданный Творцом воздух, выглядела на этом фоне прямо как изобретение нечистого. Таким образом, одна рациональность оспаривала другую, причем за «ревнителями» оставалась чистая разумность, а Петр вводил учет человеческих слабостей – или потворство им.
Рациональные соображения лежали и в основе перехода двора на иностранные языки: голландский, немецкий, французский. Целью здесь было свободное владение языками, которое позволило бы легко приобщиться к достижениям западной науки и техники. Тем самым Россия избавлялась от необходимости пользоваться услугами только иностранных специалистов, открывала дорогу развитию самостоятельной научно-технической школы. Как писал Тютчев о Ломоносове:
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье —
Не нас поработил ему.
При этом, однако, высокомерие знати по отношению к народу, со времен Петра становившееся более непосредственным и, так сказать, детским (потому что религиозные принципы, уравнивавшие людей на высшем, богословском уровне, отступили на задний план, а философские принципы гуманизма усваивались плохо), вело к тому, что и в быту знать перешла на французский язык, ведь светские разговоры так было удобнее вести, скрывая их деловые и куртуазные моменты от пересудов «черни». Нарочито назвав по-голландски свою новую столицу, Петр одновременно сделал заявку на вход в европейскую политику и проявил то же высокомерие по отношению к строившему этот город в силу крепостной повинности простому человеку, иностранных языков не учившему. Прошли века, Петербург в годину сплочения царя и народа был переименован в Петроград, а спустя еще время большинство русских детей оказались изучающими тот или иной иностранный язык; однако привкус высокомерия, многократно усиленный после Петра, уже подорвал в империи столь желанное для нее единство титульной нации, этот подрыв уже сказался в изломах ее дальнейшей судьбы.
Все это не означает, что христианская идея Рима была при Петре отвергнута. Она оставалась наследcтвом, которое принимали без рассуждения, подобно «Мономахову трону» в Успенском соборе, который Петр велел не заменять ни на какой другой: «Я сие место почитаю драгоценнее золотого за его древность, да и потому, что все державные предки, Российские Государи, на нем стаивали». С научной точки зрения показано, что строительство петровской столицы ориентировалось на Рим как имперский и одновременно духовный центр [96]. И в общественном сознании того времени царь оставался поборником православной веры. Нельзя полностью согласиться с тем, что при Петре «задачей религии» было только лишь «воспитать из народа добрых граждан, преданных государству и его целям» [97]. Государство само все так же не имело смысла без православия, а потому даже в идеологию Полтавской победы – главного светского праздника при жизни Петра – был внесен мотив борьбы с ересью иконоборчества, которое шведы представляли как лютеране:
Победную песнь
воспоем возвысившему Богу
рог наш
и сей возвеличившему
царю благочестивому
на врагов креста
и божественных икон Христовых.
(Стихи победительные, 2)
Если в византийских по стилю и духу (написанных в Славяно-греко-латинской академии), моноголосных «Стихах победительных во славу и честь Петру Алексеевичу», которые «петы были в пришествие государево из-под Полтавы в Москву на триумфальных воротах певчими», царь предстает «вторым Македонским Александром» и удостаивается божественного титула «державнейшаго пантократора» [98], то в первом русском многоголосном концерте Василия Титова, этом образце партесного пения, сохраняется подлинно древнерусский строй мыслей, когда самонадеянности шведов противопоставлена единая надежда на милосердие Божие:
О, суетнаго кичения!
О, преходящия славы!
О, краткаго возношения!
О, великия Твоея, Боже,
истины на враги!
О, неизглаголанного к нам
милосердия!
Оба произведения – и «Стихи», и концерт – связаны с церковной службой в честь Полтавской победы 27 июня (по старому стилю, по которому Россия еще долго будет жить в своем времени) 1709 года. Эта служба примечательна тем, что ее основной мотив – представление православного народа как избранного, Нового Израиля, вполне традиционное для Руси. Еще Курбский писал Грозному: «почто побил еси сильных во Израили», на что царь отвечал ему: «сильных есмя во Израили не погубили». В службе чувствуется еще впечатление от силы шведского войска, состоящей особенно
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.